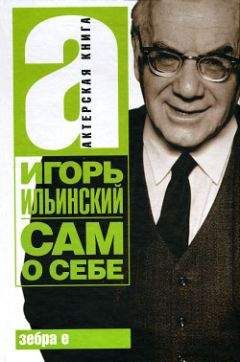камни. Каждая душа – поле боя, негоже от него уклоняться, виться прямиком к бесу в пасть разверстую. И коли нет у нас веры, то не помогут ни праведники далекие, ни молитвы, чужими людьми сказанные. Да, за нас, за нас умер Господь, а чем мы ответим ему? Как исполним Его главную заповедь?»
– Господи, – взмолился Еремей, – научи меня говорить! А не хочешь – научи делать!
Доктор Лемке умиротворенно сидел в плавно двигавшейся повозке. Может, все-таки стоит записать воспоминания? Вот и дочь тоже уговаривает. И нельзя же сказать, что он к этому совсем не способен. А не тянет. Не хочется. Да и пустое это, гордыня. Только вот жалко иногда, что пропадут, растают навсегда события, подобные сегодняшнему. Победитель чумы, тот самый статный генерал, что так внимательно слушал наставления доктора в валашской степи и потому, хоть и не без Божьего соизволения, сумел уберечь свою армию, пришел держать почетный караул у гроба старшего по чину, того, кто чуме проиграл.
И все-таки решился Еремей. Как сказал старик про кровопускателей, про дохтуров заезжих, что гнилыми порошками изводят народ православный, – решился. Ибо твердо знал: здесь грех, запрет, лжесвидетельство. И старик тот грешен неправдою своей или пусть даже дуростью, и он сам, Еремей, грешен будет, если ему не насупротивничает. Ближе подвинулся, уже, кажись, и рот открыл.
– Вот еще чего скажу напоследок, – вдруг возвысил голос старик, – не печалуйтесь излишне, ждите!
Осекся Еремей, даже мал-мала застыдился. Интересно вывернул, но лучше так. Раз уж он к терпению зовет да к тому, чтобы горю не поддаваться, не нужно с ним спорить. Верно это, разумно, нет здесь малодушия. Раз спокоит он народ, дурно его в ответ раззадоривать.
– Ждите, – продолжал старик, – избавления. Скоро придет оно, да не с запада, а с востока, стороны солнечной. Есть заступник народный, только спрятали его баре, далеко увезли, глубоко схоронили, заложили в столб крепкий, аж почти до смерти. И всем объявили: умер, мол, конец. Камень могильный поставили, службу сыграли поминальную. Потому, что за веру хотел встать православную, а народ на волю отпустить, ан не дали ему злые перевертыши. Но нет – жив, сохранил Господь своего избранника верного, законного-то помазанника. Треснул тот столб, не выдержал собственной тяжести. Вернется, не в тот, так на другой год вернется на престол государь Петр Федорович, всех покарает, кто народ изводил, пока он был в отлучении да злом изгнании. Суд Божеский вершить станет, справедливый и беспристрастный. И тогда народу великая радость будет, а барскому семени – тьма и скрежет зубовный. Повернется мир, опрокинется, и станут последние первыми, а первых к тому ж неминуемо ждет воздаяние, и прежестокое, по грехам их.
От таких слов застыл Еремей. А старик хитрым глазом во все стороны – зырк, сгорбился, ворот поднял и вдруг исчез. Словно гриб обратно в землю вкрутился. Народ же колыхнулся слегка, туда-сюда обернулся и тихонько расходиться стал, кой о чем промеж себя разговаривая. Еле слышно, ничего не мог разобрать Еремей, даже у тех, кто мимо шел. Но не молчали – значит, достучался до них старик, ввернул промеж глаз занозу жгучую.
«А ведь надо, надо было бежать за стражником-то, – подумал Еремей. – Только чему бы, ужели чему-нибудь помог этот стражник? Наоборот, еще больше бы в старике утвердились, еще крепче бы уверовали в его сказку яростную. Не со стражею с ними надо, не со стражею, но как тогда таким вещунам рот закрыть? Он-то спорить со мной не станет, сразу нехристем покроет, басурманским аспидом. Оплюет прилюдно и полновесно, утереться не успеешь. И ведь поверили старику, поверили, а мне? Стали бы меня слушать? И станут ли верить, даже если, Господним соизволением, я когда-нибудь научусь их лечить?»
Посреди народа стоял Еремей, люда слободского, черного, трудового, с рождения им знаемого. И был совершенно один.
«Одна забота тяготит меня ныне – кого рекомендовать Синоду для доставления на московскую кафедру. Место это традиционно почитается наиважнейшим с екклезиастической точки зрения. Между нами говоря, достойный кандидат тут есть лишь один, и он вам должен быть хорошо знаком – это тот самый архиепископ, чья возвышенная речь по счастливому поводу великой флотской баталии недавно прогремела на всю Европу. Единственное, что меня пока останавливает – необходимость быть в таком случае с ним разлученной, и особо – не иметь возможности собственноручно представить его ряду лиц, чрезвычайно известных городу и миру, которые мыслью своею пронизали многие утомленные души, а словами обогатили алчущие света сердца. Не могу скрыть от вас, что некоторых из них, кстати, ваших соотечественников, мы в своем отечестве вскорости ожидаем…»
Мистер Уилсон опять жил в новой стране. Немало с тех пор убежало лет, как он уехал из Петербурга, обосновался в Новой Англии, которую теперь следовало называть… Ну, пожалуй, по-прежнему – Новой Англией, хотя Англией, точнее, Британией, она больше не была. Столько времени, иногда думал почтенный, теперь вдобавок, увы, и пожилой коммерсант. Проходит жизнь, добавлял он еще, почти уже прошла.
Нет, не подумайте, оглядываясь назад, наш герой не испытывал особых сожалений. В порту у него был свой собственный причал – в городе его называли «русским», и не без оснований, ибо чуть не каждый второй швартовавшийся к нему корабль шел из Петербурга, иногда Риги, редко – Архангельска. И семья была у мистера Уилсона, двое детей подрастали, из которых одному – тлилась надежда – будет суждено стать наследником торгового дома, что рос каждый год, словно на дрожжах.
Часто думал почтенный коммерсант, а почему он почти сразу, чуть ли не немедленно после приезда в колонии встал на сторону так называемых патриотов, хотя до этого ничего о них не слышал и вообще считал здешние места спокойными и свободными от европейских треволнений? Куда подевалась его лояльность к старой доброй Англии, которая, если по совести, не сделала ему ничего дурного? Кстати, а почему ни одна европейская держава не выступила на стороне владычицы морей? Что французы с испанцами даже вступили в войну – понятное дело, ими двигала жажда реванша, но отчего все остальные монархи, столь нетерпимые к любому республиканству у себя дома, не сочли необходимым поддержать английского брата в борьбе с беззаконными мятежниками?
Да, глава торгового дома хорошо знал, что тутошним обывателям было в чем упрекнуть парламент и его величество короля Георга III, но почему он сам так загорелся их обидами и нежеланием платить добавочные налоги в лондонскую казну? Вот Брекенридж, как и следовало