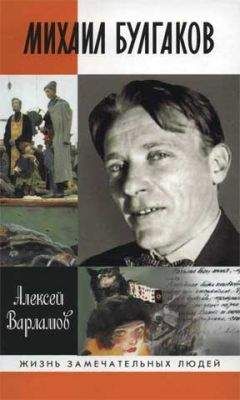Репетиции «Мольера» продолжались четыре года, они вымотали и автора, и актеров, «…я ненавижу эту пьесу, и поэтому мне хочется от нее уйти. Я настолько сбит пьесой, что я ее ненавижу» [12; 425], – говорил во время репетиций «Мольера» в мае 1935 года исполнявший роль Муаррона Борис Ливанов, а незадолго до выхода спектакля прибавил: «…вообще, вся работа по „Мольеру“ для меня – как плохой сон» [12; 431]. «То, что Станицын вступил в Мольера, когда ему было 33 года, а сейчас ему 38 лет и он еще этого Мольера не сдал, – это разрушает его» [12; 434], – выступил на театральном собрании в июне И. Я. Судаков, а сам Станицын на том же совещании заявил: «Вот я, например, еще два года – и я не сумею сыграть в „Мольере“ по своим физическим данным, я толстею и начинаю задыхаться. <…> За два года метро построили. За четыре года у нас построили тяжелую индустрию, всю страну поставили на ноги. Мы становимся передовой страной, а пьесу мы не можем поставить четыре года» [12; 440].
Единственный плюс этого сюжета заключался в том, что история постановки «Мольера» не меньше «Турбиных» сподвигла Булгакова написать «Записки покойника», и так благодаря театральной неудаче мы получили великую удачу литературную, но это опять же к вопросу о том, какой ценой оплачивалась вершинная булгаковская проза и какой опыт за нею стоял.
Договор на «Мольера» был подписан 15 октября 1931 года (со сроком постановки не позднее 1 мая 1933 года), сразу после того, как пьеса, благодаря ходатайству Горького, получила разрешение Главреперткома. С 1932 года ее принялся репетировать молодой режиссер Николай Михайлович Горчаков, а на главную роль был назначен Иван Михайлович Москвин.
«…по словам Оли: – Выплывает, кажется, „Мольер“. Написали во Францию К. Су и если он не „подкузьмит“ (?), далее, если не подкузьмит Москвин, если дадут актеров. А пьеса в Театре уже два года. Ее начинали репетировать и бросали – несколько раз», – записала Елена Сергеевна 30 ноября 1933 года. Станиславский – нет, а вот Москвин подкузьмил, отказался от роли по личным причинам. «Он сейчас расходится с женой, у него роман с Аллой Т. – положения театральные часто слишком напоминают жизненные» [21; 31], – отметила Елена Сергеевна в дневнике, а много позднее в одном из писем привела слова самого актера: «…не могу репетировать, мне кажется, что я про себя все рассказываю. У меня с Любовью Васильевной дома такие же разговоры, все повторяется, мне трудно. Вся Москва будет слушать как будто про меня» [125; 268].
С этого момента и начались, а вернее, продолжились на новом витке, усилились злоключения самой горькой из всех булгаковских пьес.
«3 ноября (1933) …Федя (Михальский. – А. В.) предсказывал: – „'Мольер' не пойдет“» [21; 26].
«6 декабря. Оля у нас.
– …Ну, а „Мольер“?
– Ничего не известно… вряд ли пойдет…» [21; 30]
Они ошибались. «Мольер» шел, но медленно, тяжело, как корабль, который тащили волоком в надежде спустить на большую воду, а воды все не было и не было, и он застревал в зыбучих песках бесконечных репетиций. В эти дни Елена Сергеевна записала свой разговор с мужем:
«13 мая (1934 г). 15-го предполагается просмотр нескольких картин „Мольера“. Должен был быть Немирович, но потом отказался.
– Почему?
– Не то фокус в сторону Станиславского, не то месть, что я переделок тогда не сделал… А верней всего – из кожи вон лезет, чтобы составить себе хорошую политическую репутацию. Не будет он связываться ни с чем сомнительным! А вообще, и Немиров и „Мольер“ – все мне осточертело» [21; 44].
Психологически это было очень понятно: именно с «Мольером», даже больше чем с «Турбиными», «Бегом» и «Мертвыми душами», Булгаков угодил в самое пекло внутримхатовских разборок, трений, противоречий, сделок и компромиссов между двумя основоположниками, между нижним и верхним кабинетом, которые возглавляли соответственно Станиславский и Немирович-Данченко, между режиссерами и дирекцией, между режиссерами и актерами, между режиссерами молодыми и основоположниками, творчеством и коммерцией, между теорией и практикой, между театром и Кремлем. Именно здесь он в полной мере сделался заложником театральных страстей и закулисных интересов, чего его натура органически вынести не могла, и Булгаков сам становился несговорчивым, раздражительным, едким, неприятным и порою даже агрессивным.
«Вы не театральный человек» – эта ироническая фраза Бомбардова из «Записок покойника» имеет очень глубокий смысл. И сколь бы долго Булгаков в театре ни служил, как бы глубоко и болезненно его ни боронили и ни бороздили, театральности, гибкости, ловкости, обходительности в нем не прибавлялось – его натура была слишком для этого черства и жестка («Вы человек неподатливый», – недаром бросает в адрес Максудова Иван Васильевич), – а скорее с годами даже убавилось. Театр в большей степени открывался для него с темной, низменной стороны. Да и обстоятельства с той поры, как он первый раз переступил порог Художественного театра, сильно переменились. В 1926-м энергичный и волевой режиссер Илья Судаков («…если ты напишешь пьесу, мой совет, добивайся, чтобы ставил Судаков», – писал Булгаков о Судакове П. С. Попову) сумел сделать с «Турбиными» то, чего не удалось выполнить десятилетие спустя стесненному обстоятельствами и менее решительному и талантливому Горчакову. Положение Горчакова в Художественном театре точнее всего можно было бы описать словами красного директора тов. Аркадьева из его докладной записки на имя Сталина осенью 1936 года. Вникнув во мхатовскую ситуацию, Аркадьев писал вождю: «…в театре оставались режиссеры, которые безропотно проводили всю черновую работу с актерами, проходили роли, подчитывали необходимую литературу и сдавали затем проделанное одному из руководителей уже для настоящей режиссерской работы. По терминологии МХАТа это называется распахать пьесу и распахать актера» [3].
«Мольера» пахали пять лет и все без толку. Он изначально не задался, не пошел. Способствовали ли тому трудный характер пьесы и ее главного героя, театральная конъюнктура, эпоха или тот факт, что Булгаков выступал не только в роли автора пьесы, но и сорежиссера, – скорее всего влияло все разом. Перефразируя Крылова, можно так сказать: в случае с «Мольером» среди актеров, среди товарищей не было самого важного – согласия. В 1925–1926 годах во время репетиций «Турбиных» и актеры, и режиссеры, и театральная администрация – все были заодно, как если бы чувствовали, какой успех и сколь долгая жизнь будет ждать этот спектакль, до сих пор идущий на сцене МХАТа имени Чехова под названием «Белая гвардия», в истории же с «Мольером» все, напротив, никуда не торопились, точно предчувствовали, что больших дивидендов постановка не принесет.
На первый взгляд это могло показаться странным: белогвардейская – или по меньшей мере воспринимаемая как белогвардейская – пьеса никому не известного автора, поставленная всего через несколько лет после окончания Гражданской войны, победила всех своих врагов и выдержала бешеную травлю и лай собак, а внешне гораздо менее провокационный спектакль о французском драматурге поза-позапрошлого века, с такими муками предъявленный публике десять лет спустя после «Турбиных», проиграл, согнулся всего под несколькими газетными ударами. Но менялось время, и Булгаков не вписывался в него, он по большому счету остался в 1920-х, когда конфликты были обнажены, когда еще велась острая, открытая фракционная борьба и его пьесы служили ее отражением, барометром. Подковерную, менее подвижную и куда более фальшивую эстетику 1930-х он как драматург не понимал, не принимал, внутренне отторгал, и, как знать, возможно, каким-то мозжечком Станиславский это почувствовал и попытался использовать неудобную, но очень сценичную пьесу в учебных целях: режиссеру был важен не результат, но процесс, поиск, эксперимент и доказательство правоты его теории. К этому стоит прибавить, что с весны 1933 года по август 1934-го основоположника не было в Москве и спектакль долгое время пребывал в бесхозном состоянии.
«Сообщения газет о том, что в МХТ пойдут „Мольер“ и „Бег“, приблизительно верны, – писал Булгаков в сентябре 1933 года брату Николаю. – Но вопрос о Мольере так затягивается (по причинам чисто внутренне театральным), что на постановку его я начинаю смотреть безнадежно…» [13; 305]
Тот же самый мотив прозвучал и в письме Павлу Сергеевичу Попову, написанном полгода спустя, 14 марта 1934 года: «„Мольер“: ну, что ж, репетируем. Но редко, медленно. И, скажу по секрету, смотрю на это мрачно. Люся без раздражения не может говорить о том, что проделывает Театр с этой пьесой. А для меня этот период волнений давно прошел. И если бы не мысль о том, что нужна новая пьеса на сцене, чтобы дальше жить, я бы и перестал о нем думать. Пойдет – хорошо, не пойдет – не надо» [13; 316].
Наконец, еще год спустя, 14 марта 1935 года все тому же Попову:
«Мною многие командуют. Теперь накомандовал Станиславский. Прогнали для него Мольера (без последней картины (не готова)), и он, вместо того чтобы разбирать постановку и игру, начал разбирать пьесу.