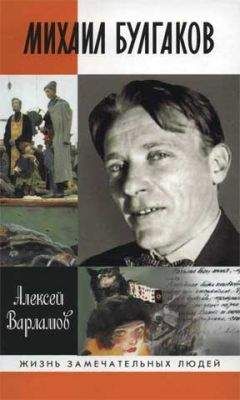«…может быть, это и жестоко с моей стороны требовать доработки, но это необходимость» [125; 281], – сохранились в репетиционных записях слова самого Станиславского.
«10 марта <…> Мысль Станиславского о том, что надо показать во всех картинах, что Мольер – создатель гениального театра. Хочет вписывания таких вещей, которые М. А. считает тривиальными и ненужными. <…> …у Станиславского с разбором „Мольера“. М.А. измучен. Станиславский хочет исключить лучшие места: стихотворение, сцену дуэли и т. д. У актеров не удается, он говорит – давайте, исключим» [21; 78].
В отдельных мемуарах эта картина была несколько откорректирована в пользу Булгакова. Так, с точки зрения М. М. Яншина, игравшего в пьесе роль слуги Мольера Бутона, вмешательство Станиславского очень серьезно ухудшило ситуацию вокруг пьесы:
«Пока мы репетировали с Горчаковым – все шло хорошо, вроде нормальным путем. <…> Но вот пьеса попала в руки Константина Сергеевича.
И, как это бывало всегда, Константин Сергеевич, вероятно, больше, чем надо, обратил внимание на название пьесы „Мольер“.
„Вы чувствуете, – говорил он нам, – какова ответственность наша перед великим именем, какова ответственность наша перед народом, какова ответственность наша перед французами, мы ставим пьесу о великом Мольере“.
И он стал делать гала-спектакль. <…>
А Булгаков и не думал писать историческую пьесу о Мольере.
И отношение Константина Сергеевича Станиславского к этой пьесе как к биографической пьесе о Мольере – было его ошибкой, ибо он считал, что мы несем ответственность перед Мольером, перед его великим именем.
Но это было недоразумение, вызванное неправильным названием пьесы.
И поэтому в данном случае Булгаков не мог нести ответственности за эту пьесу как за историческую пьесу» [12; 404].
Насколько оценка Яншина соответствовала действительному положению дел – вопрос спорный. У «Лариосика» были резоны так писать. Несомненно лишь то, что Станиславский настаивал на своем, Булгаков же, попытавшись внести изменения в текст и убедившись, что ничего из этого не получается, а оно, судя по всему, и не могло получиться, – на своем.
«Я не доказываю, что пьеса хорошая, может быть, она плохая. Но зачем же ее брали? Чтобы калечить по своему? <…> Представь себе, что на твоих глазах Сергею начинают щипцами уши завивать и уверяют, что это так и надо, что чеховской дочке тоже завивали, и что ты это полюбить должна…» [21; 79] – цитировала Елена Сергеевна в дневнике слова мужа. А сам Булгаков в эти же дни писал Павлу Попову:
«Коротко говоря, надо вписывать что-то о значении Мольера для театра, показать как-то, что он гениальный Мольер, и прочее.
Все это примитивно, беспомощно, не нужно. И теперь сижу над экземпляром, и рука не поднимается. Не вписывать нельзя – пойти на войну – значит, сорвать всю работу, вызвать кутерьму форменную, самой же пьесе повредить, а вписывать зеленые заплаты в черные фрачные штаны!.. Черт знает, что делать!» [13; 365]
А. М. Смелянский приводит слова Станиславского на роковой репетиции 17 апреля 1935 года, где Булгаков «по болезни» не был, но после нее получил стенограмму, окончательно выведшую его из себя: «…конец слишком грустен. Может быть, действительно, закончить анонсом: „Он умер, но слава и творения его живут. Завтра спектакль продолжится“. По-моему это не плохо. Если выдержать вообще эту намеченную линию, то получится хорошая пьеса. Булгаков много себя моментами обкрадывает. Если бы он пошел на то, что ему предлагается, то была бы хорошая пьеса. Он трусит углубления, боится философии» [125; 289].
Они хотят, чтобы я писал с выводами, говорил о своих критиках предшественник Булгакова по схваткам со Станиславским Антон Павлович Чехов. Булгаков, судя по всему, написал без выводов или, вернее, с теми выводами, которые никого не могли устроить. Но именно по прочтении этой стенограммы Булгаков пошел на прямой конфликт с режиссером, написав и ему, и Горчакову по своему обыкновению вежливое и учтивое, но абсолютно бескомпромиссное письмо, где отверг все требования внести в пьесу изменения, которые нарушают ее «художественный замысел и ведут к сочинению какой-то новой пьесы», каковую он, Булгаков, писать не может, так как в корне с нею не согласен. В противном случае автор пригрозил отзывом пьесы. «Если Художественному Театру „Мольер“ не подходит в том виде, в каком он есть, хотя Театр репетировал его именно в этом виде и репетировал в течение нескольких лет, я прошу Вас „Мольера“ снять и вернуть мне» [13; 369].
Таким образом, повторялся уже известный по 1925–1926 годам мотив авторского «шантажа», и на этот раз театр снова пошел на попятную или сделал вид, что уступил.
«Репетиции „Мольера“ у Станиславского идут по основному тексту М. А.» [21; 86], – записала Елена Сергеевна 29 апреля.
«Играйте так, как есть, по тексту пьесы. Вот и давайте победим. Это труднее, но и интересней» [125; 292], – обратился Станиславский к актерам, зачитав перед труппой ультимативное письмо Булгакова, а в другом месте мысль режиссера прозвучала еще более отчетливо: «…победить автора, не отступая от его текста» [13; 371].
Это очень важная проговорка. Отношения между Булгаковым и театром превратились не просто в сотрудничество-соперничество, что нормально и по-своему неизбежно, но в военные действия, где каждая из сторон стремится к своей победе. Слово «война» употребил, как мы помним, и Булгаков в письме Попову. Таким образом враждующее состояние зафиксировали обе заинтересованные стороны. Позднее в дневниковой записи от 29 декабря 1955 года Елена Сергеевна попыталась представить конфликт между Булгаковым и Станиславским как некую театральную интригу и обвинила во всем третью сторону:
«Видела в студии МХАТа Ларина, который говорил, что во время репетиции „Мольера“, в конце уже, актеры (главным образом, Станицын) говорили про К. С. – „выжил из ума“, „чего его слушать – сумасшедший“ и так далее. Когда К. С. начинал говорить замечания, они только спрашивали: но мы хорошо ведь играли, хорошо?
Ларин думает, что Подгорный, в силу своего наушничества, передал К. С-чу разговоры актеров, старик обозлился. А тут кто-то нашептал Михаилу Афанасьевичу, и того восстановили против К. С. Ларин считает, что К. С. играл не последнюю роль в снятии пьесы. „Но, – говорит Ларин, – в начале и в ходе репетиции К. С. был влюблен в пьесу…“» [12;451]
Это мнение не следует полностью сбрасывать со счета, но очевидно, что конфликт между двумя сторонами носил слишком глубокий и принципиальный характер и никакие злопыхатели всерьез повлиять на него не могли. Существенно и еще одно обстоятельство. В истории с «Турбиными» у автора, режиссера и актеров был общий враг – Главрепертком. Не давая до последнего момента окончательного согласия, он сплачивал и объединял труппу, в случае с «Мольером» – формально разрешившая пьесу партийная кабала затаилась и не без удовольствия наблюдала за тем, как рушилось поделенное надвое театральное царство и как недостает ему мудрого большевистского руководства, красного директорства, о чем Станиславский сам попросил Сталина во второй половине 1935 года. Частично это произошло из-за конфликта с Булгаковым, который, должно быть, менее всего предполагал, к каким далекоидущим последствиям приведут его демарши. Но характерно, что именно красный директор М. С. Аркадьев, Станиславским у Сталина выпрошенный, написал о творческой манере Ка-Эса:
«…Станиславским была выдвинута новая теория. МХАТ – это вышка театрального искусства. Его задачей не является подобно другим „обычным“ театрам постановка спектаклей. Задачей МХАТа является утверждение самого высокого уровня театрального искусства. Поэтому не имеет значения, что театр в течение года или двух не выпускает вовсе новых постановок. Имеет значение то, чтобы театр в течение ряда лет подготовил спектакль, который сразу дал бы самый высокий уровень театрального искусства.
Эта теория страдает одним недостатком. Чтобы дать спектакль самого высокого уровня, необходимо, чтобы актеры были самого высокого уровня. Актеры могут достичь самого высокого уровня только тогда, когда будут постоянно и систематически работать, а не дряхлеть от безделья и, понятно, от быстротекущего времени. Кроме того, подобная теория не может оправдать себя и по результатам работы. Не всегда та постановка, над которой дольше всего театр работает, получается самой лучшей. Театр имел опыт работы с „Мольером“, который в результате пятилетней работы, как известно, никакой вышки театрального искусства не создал» [3].
Таковой была партийная оценка, причем лишенная в данном случае, что любопытно, идеологической окраски. Но партийные инстанции стали опять вмешиваться в судьбу Булгакова раньше, причем поначалу парадоксальным образом приняли его сторону. Еще до назначения Аркадьева в самый разгар весенней распри со Станиславским беспартийному драматургу возжелала помочь мхатовская партячейка.