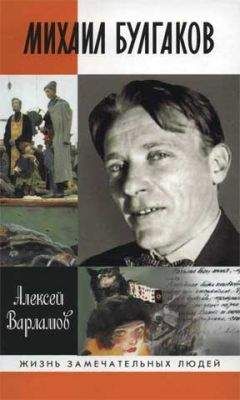«1 апреля. Вчера М. А. пригласили в партком, там было обсуждение „Мольера“. Мамошин говорил, что надо разобраться, что это за пьеса и почему она так долго не выходит. А также о том, что „мы должны помочь талантливому драматургу Михаилу Афанасьевичу Булгакову делать шаги“. О пьесе говорил: „Она написана неплохо“. Заседание было длинное, сперва с исполнителями, потом их удалили» [21; 80].
Елена Сергеевна писала серьезно, но эта картина – слов нет – просится на холст. Михаил Булгаков на заседании парткома МХАТа. Внимательные лица, дружеские рукопожатия, участливые расспросы, секретарь мхатовского парткома, рабочий сцены Иван Андреевич Мамошин, который еще прежде пытался подбодрить Булгакова, о чем имеется запись в дневнике Елены Сергеевны от 25 августа 1934 года: «…разговор с Мамошиным. – Нужно бы поговорить, Михаил Афанасьевич! – Надеюсь, не о неприятном? – Нет! О приятном. Чтобы вы не чувствовали, что вы одиноки» [21; 52]), и наконец, как апогей – несмелые шаги, которые ведомый уверенной партийной рукой делает по жизни робкий драматург.
Они плохо понимали, с кем имели дело. Это относилось ко всем: и к коммунистам, и к писателям, и к актерам, но больше всего к режиссерам – они все его недооценивали, но главное – никто не представлял, до какой степени он был истощен и как близко к сердцу принимал все то, что происходило в Леонтьевском переулке. А там, в доме, где жил и работал великий Станиславский, никто никуда не торопился, хозяин показывал комедиантам, как надо носить шляпу с пером, как пользоваться тростью, как фехтовать, и актеры прогуливали эти уроки мастерства точно последние школяры, – и позднее все это войдет в заключительные главы «Записок покойника», где даже ирония и легкость письма не смогут сокрыть пережитый автором ужас.
«И дни потекли в неустанных трудах. Я перевидал очень много. Видел, как толпа актеров на сцене, предводительствуемая Людмилой Сильвестровной (которая в пьесе, кстати, не участвовала), с криками бежала по сцене и припадала к невидимым окнам.
Дело в том, что все в той же картине, где и букет и письмо, была сцена, когда моя героиня подбегала к окну, увидев в нем дальнее зарево.
Это и дало повод для большого этюда. Разросся этот этюд неимоверно и, скажу откровенно, привел меня в самое мрачное настроение духа.
Иван Васильевич, в теорию которого входило, между прочим, открытие о том, что текст на репетициях не играет никакой роли и что нужно создавать характеры в пьесе, играя на своем собственном тексте, велел всем переживать это зарево.
Вследствие этого каждый бегущий к окну кричал то, что ему казалось нужным кричать.
– Ах, боже, боже мой!! – кричали больше всего.
– Где горит? Что такое? – восклицал Адальберт. Я слышал мужские и женские голоса, кричавшие:
– Спасайтесь! Где вода? Это горит Елисеев!! (Черт знает что такое!) Спасите! Спасайте детей! Это взрыв! Вызвать пожарных! Мы погибли!
Весь этот гвалт покрывал визгливый голос Людмилы Сильвестровны, которая кричала уж вовсе какую-то чепуху:
– О, боже мой! О, боже всемогущий! Что же будет с моими сундуками?! А бриллианты, а мои бриллианты!!
Темнея, как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну и думал о том, что героиня моей пьесы произносит только одно:
– Гляньте… зарево… – и произносит великолепно, что мне совсем неинтересно ждать, пока выучится переживать это зарево не участвующая в пьесе Людмила Сильвестровна. Дикие крики о каких-то сундуках, не имевших никакого отношения к пьесе, раздражали меня до того, что лицо начинало дергаться.
К концу третьей недели занятий с Иваном Васильевичем отчаяние охватило меня».
«М. А. приходит с репетиций у К. С. измученный. К. С. занимается с актерами педагогическими этюдами. М. А. взбешен – никакой системы нет и не может быть. Нельзя заставить плохого актера играть хорошо» [21; 81].
Но не меньше был измучен и его главный оппонент в вопросе о действенности «системы Станиславского» – ее создатель.
«Я этой пьесы не выбирал, я ее получил, получил действующих лиц. Эти действующие лица несколько раз менялись. Мне передали эту пьесу с таким настроением, что нужно иметь очень большое терпение, чтобы при моей болезни все это выносить, – говорил Станиславский во время майских репетиций. – Михаил Афанасьевич задает страшно трудную задачу актерам: „ты играй героя пьесы и выставляй только одни его недостатки“ <…> Эта вещь очень трудная. Автором никаких оправданий не дано, вот то, что пропущено автором, и должен создать актер для себя, чтобы не попасть на фальшивую линию». И в другом месте: «Мне 72 года, мне говорить нельзя, но я все время делаю упражнения, потому что я только этим и живу. <…> Чем вы хотите меня удивить? Я настолько изощренный человек в этом смысле, что отлично понимаю, чего хочет актер. Я удивляюсь, когда вы приходите ко мне, ведь я вас не узнаю. Мне кажется, я попал в какой-то новый театр, что это какие-то новые люди, я не верю тому, что они показывают <…> Я здесь обращаюсь ко всему коллективу – караул… спасите себя, пока еще не поздно» [125; 294].
Вообще мотивы действий Станиславского во всей этой истории трактуются по-разному. Как уже говорилось, существует предположение, что режиссер потому тянул с выпуском спектакля и требовал от драматурга внести изменения, что предчувствовал идеологическую уязвимость «Мольера» и хотел, чтобы в спектакле были иначе расставлены акценты и тем самым он был бы выведен из-под огня критики. В этом смысле позиция Станиславского напоминала рецензию А. Н. Тихонова на жэзээловский вариант «Мольера»: от Булгакова хотели серьезности и значительности в разработке образа главного героя, он же ни на какие переделки идти не соглашался. Иную и, судя по всему, более точную версию высказал режиссер спектакля Н. М. Горчаков. В опубликованной в 1950 году мемуарной книге «Режиссерские уроки Станиславского» всю вину за неуспех «Мольера» он свалил на одного Булгакова, который-де не захотел следовать настояниям Учителя. Однако помимо этого существует иной, куда более ценный и объективный документ.
В начале июня 1935 года во МХАТе состоялось собрание народных и заслуженных артистов Республики по вопросу о проработке речи тов. Сталина, на котором Горчаков, причем заметим, безо всякого пиетета к великому Ка-Эсу, выступил с очень напористым заявлением:
«Теперь о той же истории с „Мольером“. Кто принял эту пьесу? Оказывается, никому неведомо. Константин Сергеевич говорит: „Я пьесу не принял, она мне не нужна, то, да се, да пятое, да десятое“. Владимир Иванович никакого участия в пьесе не принимает. Значит, пьеса попала в театр неизвестно как, но ведь пьеса интересная, текст хороший. Каждый год приходится „кустарным способом“ как-то устраивать эту пьесу в театр <…>. У Константина Сергеевича есть огромные мысли, огромные, интересные предположения в области актерской игры – и полное нежелание работать режиссерски. Я его отлично понимаю. Как он сам говорит, поднявшись наверх, на склоне своих лет не так уж интересно выпускать какие-то спектакли. Гораздо интереснее и важнее проводить огромную воспитательную, созидательную работу над актером и над труппой.
Это бесспорно, никто против этого протестовать не будет. Но есть большие задачи и есть такой рядовой вопрос, как выпуск спектакля в четыре года.
И здесь я считаю, что необходимо нашим старикам, основной группе, говорить с Константином Сергеевичем в том отношении, чтобы он разграничил плоскость своей деятельности. Очевидно, есть в человеке два полюса: полюс большого учителя, который ему сейчас нравится. Ему многое есть что сказать и сделать. И полюс, который требует театр, – хороший блестящий режиссер, – что его не увлекает. Надо поговорить с ним, чтобы он это сам в себе разграничил.
Когда он принимал наш показ, когда он работал с нами как режиссер, он сказал: „Очень хорошо, можете играть очень быстро“, потом он стал с нами заниматься, но уже не в плоскости режиссерской, а в плоскости учителя с учениками» [12; 444].
Горькая ирония этого сюжета заключается в том, что слова эти были произнесены Горчаковым тогда, когда Станиславский оказался фактически не у дел. 11 мая 1935-го он провел последнюю, сам того не подозревая, репетицию в своей жизни в основанном им Московском Художественном театре. Репетицию «Мольера». Следующая должна была состояться в конце месяца. Но она была отменена. Из-за Михаила Афанасьевича Булгакова. К тому моменту взбунтовавшийся автор сделался яростен, как перепугавший мирных чиновников губернского города облекшийся в плоть капитан Копейкин. Елена Сергеевна протестовала на пару с ним. Позднее в отредактированном своде дневника она следы этого бунта припорошила, но первоначальные записи не скрывали ярости обоих. Так что не только рапповским критикам была готова расцарапать физиономии королева Марго, и всю весну 1935 года супружеская чета Булгаковых наводила ужас на видавшую виды администрацию МХАТа.