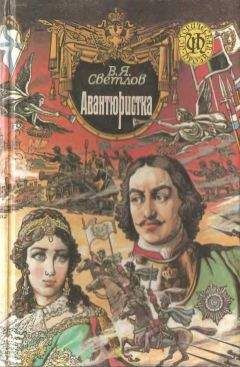— Про то я тебе поведаю, коли слово дашь не выдавать ни ее, ни меня, а то ирод-то твой дознается и погубит нас всех. Я-то хотя и стара, а все-таки своей смертью помереть мне охота.
— Да о ком ты, нянюшка? — перебила ее боярыня.
— А не выдашь?
— Не выдам.
— Клянись на образ Николая Чудотворца! — потребовала недоверчивая старуха.
Боярыня исполнила ее просьбу и поклялась на образ Николая Чудотворца.
— Так-то крепче! — одобрительно кивнула головой нянька. — А то станет ластиться, речи льстивые говорить, а сердце-то женское жалостливое, все и выболтает…
— Да говори, няня, кто обиженная эта?
— Обиженная эта, пленница? — тянула старуха. — Да польская княжна…
— Да как звать-то ее?
— А звать ее? Постой, запамятовала я что-то. Хорошо, что добрые люди мне записали. — Она полезла в карман, долго в нем рылась и вытащила бумажку. — На, читай!
— Княжна… Ванда Ключинская! — прочитала боярыня.
— Что, не слыхивала о такой? — спросила старуха.
— Не-ет! — нетвердо произнесла Елена Дмитриевна.
Однако ей казалось, что это имя она уже слыхала где-то, но оно лишь неясно звучало в ее ушах и какой-то болью отозвалось в ее сердце.
— А злодея, заточившего сердешную, не знаешь? — раздался над ее ухом шепот старой няни. — Нет? А ведь ты его ласкала, миловала, суженым звала!…
— Няня! Да это не может быть, поклеп это, — неуверенно возразила боярыня.
Старая нянька рассердилась и застучала по полу костылем.
— Я… я клеплю на ирода твоего? — закричала она на свою воспитанницу. — Да провалиться мне на сем месте, коли лжет язык мой…
— Да не ты, нянюшка, не ты! — старалась успокоить ее боярыня. — Тебе налгали; знают, что его не любишь…
— Не люблю, — твердо возразила старуха. — Да и любить-то его не за что. Злодей ведь он! Весь род их злодейский. И за что его избрала — не пойму, хоть убей.
— Не понять тебе, нянюшка, поистине не понять меня. Силу я люблю, могущество, богатырство, а до сей поры не встречала я человека могучее князя Бориса… Разве вот…
Боярыня смолкла и отвела от пытливого взора няньки свое вспыхнувшее лицо.
— Ну, ну, договаривай, договаривай… Кому поведаешь горе свое и радость, как не старой няньке? Не выдам, не бойся, тайну твою….
— Ах, няня! — обняла ее Елена Дмитриевна. — Я не знаю, что со мною! Томится сердце мое! То сладко защемит, то запоет, как от лихой боли… Ночи стала не спать, голова в огне, ноги — как лед, и тяжко-тяжко грудь давит! Няня, боязно мне что-то!
— Иль новая зазнобушка? — прошептала нянька, гладя своей костлявой рукой шелковистые волосы боярыни.
Та в ответ только крепче прижалась к старухе.
— Полно, полно! Разве впервые с тобой это приключается? Горячая ты у меня, вся в батюшку; вспыхнешь полымем, да скоро и остынешь; недолго тебя лихоманка-то любовная треплет! — рассмеялась старуха.
— Ох, няня, не то теперь, совсем не то…
— А что же такое? Ну, сказывай, коли так.
Елена Дмитриевна подняла голову, встала и, заложив за спину руки, прошлась по комнате.
— Сказать и впрямь, легче, может, станет? — остановилась она перед старухой. — Люб мне, нянюшка, один молодец…
— Знаю, что молодец, — смеясь, махнула нянька костылем. — Ой, проказница, известно, не красную девицу полюбила. А кто же этот молодец, Аленушка?
Боярыня молчала.
— Аленушка, а, Аленушка?.. — Не хочешь сказывать — не надо! — обидчиво произнесла нянюшка и засуетилась, чтобы идти.
— Полно, няня, не серчай. Не сокрыть от тебя хотела я свою тоску: все поведала тебе, а имя… На что тебе имя?
— Нешто опять разбойника какого полюбила?
— Нет! — весело тряхнула головой боярыня. — Не разбойник он! Краше его нет в целом свете, а сила-то его, сила…
— Поди ты! Нешто в силе человеческое добро? Поистине хороший человек и без силы твоей бывает.
— Ах, няня, не понять тебе меня, никогда не понять.
— Где уж мне? Из ума видно, старая, выжила. А ты мне вот что скажи: Пронский-то твой, чай, тоже силен, по-твоему, на богомерзкие дела?..
— Сила его, няня, на худое пошла.
— Ну, вот то-то же! — весьма довольная, проговорила нянюшка и стала подыматься. — Мне пора. Так как же, детушка? Вызволишь ты мне княжну-то от злодея твоего Пронского?
— Вызволю, няня, скоро вызволю! — ответила боярыня, и странная улыбка мелькнула на ее полных губах. — И силу его испробую!
— Так прощай же, дитятко!
Елена Дмитриевна поцеловала своими свежими алыми губами морщинистые щеки старушки.
— И добра же ты, дитятко, ангел сущий! — проговорила тронутая старуха. — Знаешь, что пятая заповедь-то говорит?.. А ведь старая нянька — все одно что родитель, и за почтение к старшим вознаградит тебя Бог. Ну, а коли что по этому делу с княжной занадобится, пришли за мною. Хоть и плохо ноги ходят, а вмиг предъявлюсь… Ты поразмысли-ка на досуге, как делу лучше пособить.
Долго еще говорила нянька, медленно подвигаясь к двери; боярыня молча слушала ее с улыбкой на устах, бережно ведя под руку.
— Не проводить ли тебя кому, няня? — предложила боярыня.
— И-и, что ты, мать моя! Разве я одна! В сенцах Марфушка ждет; она привела, она и уведет. Прощай, красавица. Господь с тобой! — и, осенив свою любимую питомицу крестом, старушка вышла из покоев Хитрово.
Боярыня вернулась к столу, на котором горел ночник, и еще раз внимательно прочитала записку. Потом она посмотрела на часы и прошептала, подавив легкий вздох:
— Скоро ужинать… Так поздно не придет!
Она подошла к зеркалу, висевшему в спаленке, пригладила волосы и стала прилаживать кику.
В это время вошла сенная девушка царевен и неслышно стала в дверях, ожидая, когда боярыня оглянется. Боярыня скоро оглянулась, отыскивая свой шугай.
— Ты что, Евфросиньюшка? — спросила она.
— Царевны за твоей милостью шлют, соскучились; сказывают, чего не идешь целый день, — бойко ответила девушка.
— Вот собралась их проведать… У них никого нет? — стараясь говорить равнодушно, спросила Хитрово.
— Как не быть, — ответила Евфросинья, лукаво опуская глаза. — Царь-батюшка и царица-матушка спроведать пришли царевен.
— А! — произнесла боярыня и вынула из поставца жемчужное ожерелье и серьги с подвесками. — Поди позови мне девок! — приказала она Евфросинье. — Да скажи царевнам, что, мол, идет боярыня.
Евфросинья поклонилась боярыне в пояс и скрылась.
Через минуту перед Еленой Дмитриевной, робко потупив взоры, предстали ее сенные девушки.
— Что прикажешь, боярыня? — чуть слышно шепнула одна.
Елена Дмитриевна сдвинула свои соболиные брови.
— Иль не знаете? Сарафан парчовый и шугай с каменьями бирюзовыми! — крикнула она.
Девушки затрепетали и кинулись к большому шкафу, стоявшему в соседней комнате. Боярыня тем временем перечесала голову и, потребовав новую кику, кокетливо стала прилаживать ее к волосам.
Явились девушки с сарафаном из голубой, отделанной серебром, парчи, с белоснежной кисейной рубашкой и бархатным малиновым шугаем с бирюзовыми пуговицами; поставив сарафан на пол, они стали обувать боярыню в бархатные, отороченные соболем сапожки, потом одели рубашку, взбили рукава так, что они, словно пузыри, вздулись на ее руках, и наконец облекли ее стройный стан в тяжелый сарафан, лубком коробившийся на плечах, на которые накинули шугай с золотыми позументами и драгоценными пуговицами. Шею боярыни сплошь унизали жемчугом и в уши вдели жемчужные подвески; руки украсили золотыми запястьями, между которыми были и дорогие венецийские изделия.
Одевшись и едва имея возможность шевелиться в этом тяжелом наряде, боярыня, оглянув себя в последний раз в венецийское зеркало, медленно поплыла из своих покоев к царевнам, приказав девушкам:
— На ночь приготовить яблочного настоя и огуречного рассола!
Яблочный настой она пила на ночь, а огуречным рассолом притиралась. И то, и другое способствовало будто бы белизне лица.
Девушки безмолвно, как истуканы, стояли, вытянув вдоль бедер руки. Боярыня наконец удалилась.
В доме князя Григория Сенкулеевича Черкасского шла необычайная суета. Чистили, мыли, словно обитатели сейчас только заметили пыль и грязь, наросшие по стенам неуютных покоев старинного деревянного княжеского дома.
Князья Черкасские принадлежали к одному из шестнадцати знатнейших родов, члены которых поступали прямо в бояре, минуя чин окольничего, и славились особенным богатством до 1665 года, когда моровая язва, свирепствовавшая в Москве, унесла у одного только из Черкасских, Якова Куденетовича, четыреста восемьдесят душ. После этого род князей Черкасских пришел в некоторый материальный упадок. В последние годы между Черкасскими выделился князь Яков Куденетович; он участвовал в польском походе; в 1655 году 29 июля, под Вильной, разбил обоз гетманов Радзивилла и Гонсевского. В 1632 году, еще покойным царем Михаилом Федоровичем, за особые заслуги Якову Куденетовичу было пожаловано село Богородицкое, поместье Кузьмы Минина-Сухорукого, а в 1633 году дом Минина в Нижнем был тоже пожалован в род Черкасского.