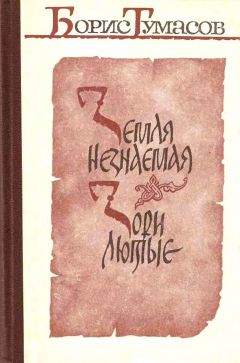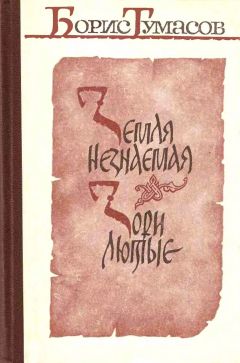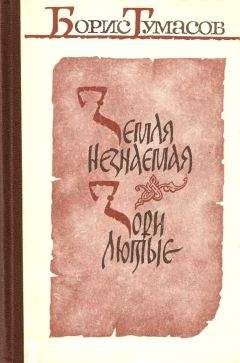Боярин вздрогнул от неожиданности, мелькнула догадка: «Уж не дознался ли Святополк, что я про него Владимиру наговорил?» Ответил поспешно:
— Иль какое сомнение во мне держишь, князь? Пусть Перун меня сразит, коли я к тебе измену таю…
— Ну, добро, ежели так, — оборвал боярина Святополк, — Есть у меня к тебе наказ: в Киеве будешь, дознавайся, что тайно противу меня князь Владимир замышляет. А о чём проведаешь, меня осведомляй. Уразумел?
— Уразумел, князь, — снова отвесил поклон Путша.
— Ну, в таком разе иди. — И Святополк нагнулся, подкинул в огонь чурку.
Боярин, пятясь, толкнул задом дверь, опамятствовал, только очутившись в гридне. В углу на соломе спали два воина из княжьей дружины, один из них храпел с присвистом. У Святополковой опочивальни бодрствовал на карауле безусый гридин.
Застегнув шубу и нахлобучив шапку, Путша покинул княжьи хоромы.
Королю польскому хорошо ведомо недовольство Святополка князем Владимиром. При случае Болеслав разжигает корыстолюбивые стремления своего зятя.
Не единожды король заверял Святополка, что готов оказать ему помощь против киевского князя. О том и наказ епископу Рейнберну.
Рейнберн думает об этом, поспешая по дороге из Кракова на Туров. Путь не близок, почти в два десятка дней.
Епископ трусит верхом на муле вслед за установленным на полозья возком. Мул бежит рысцой, а Рейнберн трясётся в седле нахохлившись, чёрный капюшон сполз на глаза. Тёплая, подбитая мехом сутана подвязана в поясе верёвкой. Щёлкают бичи возниц, переговариваются ляхи. Три десятка рыцарей выделил Болеслав в охрану дочери. От русской границы к ляхам присоединился десяток дружинников туровского князя.
Плотно прикрыв дверцу возка, Марыся забилась в угол, зябнет. В ногах тлеют угли в глиняном горшочке. Но слабый жар не согревает княгиню, и она с тоской вспоминает жаркий камин и горячее молоко с мёдом, которое пила дома перед сном.
Лицо у епископа совсем посинело на морозе, но мысли работают чётко. Напутствуя Марысю, Болеслав наказывал: «Святополку надобно сидеть на княжении не в захудалом Турове, а в Киеве. О том ты, дочь, и должна внушить мужу. Если найдутся у него в том супротивники, будет ему моя помощь».
А Рейнберну Болеслав сказал больше: «Пусть Святополк сядет на киевский стол, не миновать тогда распри меж братьями. Мы же, помощь Святополку оказав, заберём за то у него червенские города[56]. До поры об этом не только Святополку, но и Марысе знать ненадобно».
И ещё знал Рейнберн: туровский князь труслив, однако власти алчет. Трусливый же человек коварен, то истина.
Думы епископа нарушил голос Марыси. Откинув шторку, она позвала его. Передав поводья одному из дружинников, Рейнберн перебрался в возок, уселся напротив княгини, приготовился слушать. В полумраке бледно вырисовывается лицо Марыси. Она говорит о том же, о чём думает и он, Рейнберн.
— Слаб душой Святополк, не сидеть ему на великом княжении. Точит меня червь сомнения. Такого ли мне мужа надобно? Зачем отец отдал меня за него!
— Не ропщи, дочь моя, — прервал княгиню епископ. — Ты нужна Святополку, чтобы вселить в его робкую душу огонь смелости. Семя сладкого желания сесть на великое княжение посеяно в нем с отроческих лет. Каждодневно же орошай, княгиня, то семя доброй словесной влагой, и бледный росток взойдёт, даст плоды.
Тихим журчанием родника лился голос Рейнберна:
— Успокой душу, дочь моя, не гневи Господа нашего Иисуса, и уйдут от тебя печали, развеются, подобно утреннему туману. — Рука епископа осенила княгиню крестом. — Забудься в покое.
Мал городок Туров, рублеными избами и хоромами прижался к южному берегу реки Припяти. Земляной вал порос сорной травой, а замшелые бревенчатые стены и башни крепости почернели за многие годы.
Зимой городок и всё в округе заметают снежные сугробы. На припятском лугу, где с ранней весны туровские бабы пасут скот, сиротливо стоят придавленные снегом копёнки сена. Чернеет вдали голый лес, а даже днём до городка доносится вой голодных волков.
Ночами, будоража тишину, перекликаются дозорные да во дворе боярина Путши перебрёхиваются лютые псы.
Долги зимние ночи. В подполье скребутся мыши, пищат. Их возня мешает спать пресвитеру Иллариону. Он лежит боком на жёстком ложе, подсунув ладонь под голову. Мысли набегают одна на другую. Вот уже два года минуло, как по велению патриарха византийского прибыл болгарин Илларион на Русь.
Киевский архиерей[57] Анастас послал Иллариона духовником к туровскому князю Святополку.
Недолюбливал пресвитер архиерея. Может быть, помнил, что Анастас — тот самый коварный корсунский грек, коий в осаду Корсуни Владимиром, в лето 6496-е[58], изменил своим горожанам и указал киевскому князю, где зарыты водоносные трубы? Либо умный и проницательный Илларион разгадал, что в душе Анастаса правда с ложью родными сёстрами уживаются? Как знать? Верно, и сам Илларион не ответит на этот вопрос.
При дворе туровского князя увидел Илларион, какие сети плетут латиняне вокруг Святополка. Воспитанник афонских монахов, он люто ненавидел латинскую веру, ибо видел в ней отступление от православия. Вот почему и считал Илларион своим долгом уведомлять обо всём князя Владимира, дабы Святополк не отшатнулся от православной веры. Туровский же князь неустойчив, ко всему епископ Рейнберн вокруг него козни плетёт. Да и жена Святополка тянет его в латинскую веру. То по всему видно. А ежели Святополк поддастся ему, то быть ему слугой короля Болеслава, а не русским князем. И всё, что ни станет он творить, пойдёт не на благо Руси.
Илларион поднялся, достал из печи огонёк, вздул, зажёг лучину. Потом раскрыл рукописное Евангелие, долго читал. Запели вторые петухи за тёмным оконцем, отвлекли пресвитера от книги. Он вздохнул, произнёс громко:
— Прости мне, Господи, прегрешения мои.
И снова подумал: «Когда боярин Путша скажет князю Владимиру, что Святополк жену свою к королю посылал, а с ней и Рейнберн ездил, то-то взъярится князь. Но и как не взъяриться, — тут же оправдал Владимира Илларион, — коли то всё творится со злым умыслом, чтоб Святополка против братьев и великого князя восстановить. Правду рекли афонские братья: «Вера латинская коварства полна. А Рейнберн так и брызжет слюной ядовитой, аки гад ползучий».
Снова в подполье подняли возню мыши, нарушили ход Илларионовых мыслей. Он протянул руку к стоявшему в углу посоху, с силой стукнул об пол. Писк стих. Илларион уселся поудобнее на лавку и, скрестив руки на животе, забылся в дремоте.
— Княгиня, Туров! — радостно вскричал передний ездовой, раньше всех заметивший выдавшуюся из-за леса угловую стрельчатую башню.
Верхоконные дружинники и польские воины, ехавшие по двое за возком, подтянулись. Ездовые защёлкали бичами, лошади перешли на рысь, и возок покатился, легко набирая скорость.
Дозорные тоже увидели конный поезд. В городе ударили в кожаное било. Его глухие звуки донеслись до ближних сел, не вызывая у смердов тревоги. Било не возвещало опасности, оно гудело ровно, торжественно. Распахнулись городские дубовые ворота, и навстречу княгине вынесся Святополк с десятком гридней.
— Истосковался я, тебя дожидаючись, — проговорил Святополк, целуя жене руку.
Княгиня Марыся улыбнулась краем рта:
— Не держи на дороге, озябла я.
Князь нахмурился, отпустил её руку, крикнул ездовым хрипло:
— Гони! — И сам, вскочив в седло, поскакал рядом с возком.
В оконце Марыся искоса наблюдала за Святополком. Брови у него насуплены, лицо жёлтое, бескровное, редкая борода длинным клином, ну ровно старец древний, а ведь и сороковое лето ещё не минуло.
Марыся отвернулась, задёрнула шторку.
— Смирись, дочь моя, — проговорил молчавший до того Рейнберн.
Княгиня вздрогнула, ответила раздражённо:
— Не всегда сердце подвластно разуму. Любовь и плоть суть чувства человеческие.
Епископ подался вперёд, взметнулись седые брови.
— Учись владеть чувством, дочь моя.
— То удел убелённого старца либо отрешившегося от земных сует чернеца[59], — возразила Марыся.
Рейнберн поднял руку. Узкий рукав сутаны перехватил запястье. Сказал резко:
— Не забывай, дочь моя, в тебе королевская кровь. Король Болеслав твой отец, а Польша твоя родина! Разве не должна ты печься о расширении её владений и могущества? К этому должны быть все твои помыслы, и князя Святополка лаской исподволь наставляй на то. Того и твой отец от тебя ждёт…
Копыта коней застучали по бревенчатому настилу под воротней аркой, возок затрясло, колеса затарахтели, заглушая речь епископа. Он замолчал. Вскоре они подъехали к княжескому дому, и ездовые осадили лошадей. Марыся первая покинула возок. От солнца и снега прищурилась. Во дворе толпилась челядь. Не ответив на поклоны, княгиня вслед за Святополком вошла в хоромы.