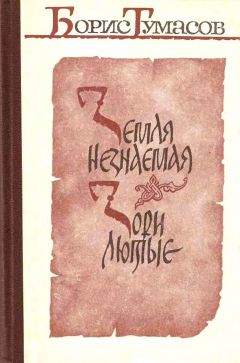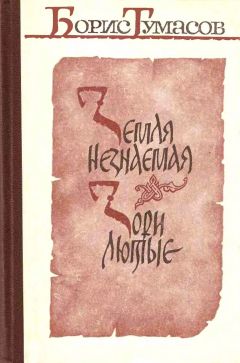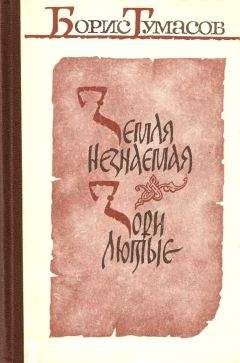Помолчав немного, добавил:
— Того гонца ко мне введёшь. Повезёт письмо Святополку.
Мудрёны науки, да Кузьме они не в тягость. Другие ещё азбуку учат, а он уже читает и счёт в уме ведёт скоро. Ко всему соседу Прову помощь окажет. Тот хоть и переросток, а в книжной премудрости глуп.
Кузьма подхватился спозаранку. Феодосий, закутавшись шубой; ещё спал. В келье не топлено, вода в жбане подёрнулась ледяной коркой. Натянув порты и рубаху, Кузьма пробил ковшиком ледок, почерпнул воды, наскоро умылся и, сжевав чёрствую краюху хлеба с луковицей, налегке побежал тёмным переходом в класс.
В школе ни души. Смахнув мокрой тряпицей с длинного соснового стола пыль, Кузьма уселся на лавку, положил перед собой берестяную дощечку с палочкой, огляделся. На подвесной полке в кожаных переплётах Евангелие и «Изборник». Рукописные пергаментные страницы с рисованными вставками и картинками. Начальные, большие, буквицы выведены киноварью.
За учительской скамьёй подвешен на стене пучок молодых ивовых прутьев. То для нерадивых и непослушных. Когда Феодосий хлещет провинившегося школяра, другие кричат хором: «Розга — мать-кормилица, уму-разуму наставительница!»
Один за другим подходили школяры, умащивались на свои места. Позже всех ввалился Пров. Лицо заспанное, потянулся с хрустом:
— Теперь поесть бы!
И плюхнулся рядом с Кузьмой. Почесал затылок, продолжил:
— Утрами матушка из поварни ворох шанежек тащит: «Ешь, Провушка, набирайся сил», — Пров блаженно прикрывает глаза, от наслаждения цокает языком. — Теперь не поспевает.
Феодосий вошёл неслышно. Чёрная монашеская ряса, до самого пола, на лысой голове островерхий клобук. Кузьма толкнул Прова локтем, вскочил. Откашлявшись по-стариковски, монах подал знак, и школяры уселись.
— Гляди, Кузька, сейчас старый козел бородёнку задерёт и проповедь о книжной премудрости прочтёт, — зашептал Пров товарищу в ухо.
А Феодосий и вправду лик кверху поднял, заговорил дрожащим голосом:
— Велика бывает польза от ученья книжного, ибо сие есть река, напояша Вселенную. Ведомо ли вам, отроки, что земля наша части свои имеет? Земля есть неровная доска, а части же её: Асия, Иеропия и Ливия, а меж ними водные пучины. Над землёй же небо.
Монах прошёлся по классу, сухонькой ручкой ткнул Прова в спину:
— Вот скажи ты, добрый удалец, что есть лето?
Пров лениво встал, почесал пятерней затылок и, потоптавшись, пробасил:
— Не ведаю.
— Дубина ты еси, Пров, сын Гюряты. Вот послушай Козьмы ответ, — захихикал Феодосий. Кузьма подхватился, заспешил:
— Лето имять триста шестьдесят пять дний и четверть, сия же четверть на четвёртое лето день бывает приступ, сий же день приступает в феврале.
— Молодец, Козьма, сын Савватея.
И снова ткнул Прова кулачком:
— Дубина, дубина еси, Пров. И как я с тобой философией и риторикой займусь, коли ты грамматику не осмыслишь.
К обеду Феодосий отпустил школяров. Пров предложил Кузьме:
— Айдате ко мне?
Жил Пров на Неревском конце. Высокий, о двух ярусах, дом обнесён крепким забором. В глубине двора клети, житница, конюшня. Отец Прова, тысяцкий Гюрята, ведал новгородской казной, а в дни, когда по нужде скликали городское ополчение, становился его предводителем.
Когда Кузьма с Провом приблизились к дому, Гюрята стоял на крыльце, заложив руки за спину. Был он, несмотря на мороз, в одной рубахе навыпуск, седой волос теребил ветер. Лицо на морозе раскраснелось. Увидев сына с товарищем, спросил весело:
— Ну-те, что нынче за науку преподнёс вам Феодосий? А не сёк ли он вас? Вижу, вижу по глазам, что у тя, Пров, в голове пусто, брюхо же урчит от голода. Ну-тка спешите в трапезную насыщаться.
Сменив во Вручеве подбившихся лошадей, гридни князя Владимира одвуконь скакал гонцом в Туров. У гридня шапка надвинута на самые брови, ноги в тёплых катанках, шуба на волчьем меху. Но холод всё равно лезет за воротник. Усы и борода у гонца заиндевели. Приподнимаясь в стременах в такт бегу коня, он смотрит по сторонам, нет ли поблизости жилья обогреться. Но кругом заснеженное поле и редкие раздетые леса.
Рука в рукавице придерживает на боку тяжёлый обоюдоострый меч, другая — повод. К седлу приторочены лук с колчаном и сума с провизией.
Везёт гонец запрятанное на груди письмо князя Владимира к Святополку. Пишет он, что болен тяжело и желает при последнем дыхании увидеть своего сына. Такова его княжья воля…
Скачет гридин и не знает, что другой, кружной дорогой, через Искоростень, выехала в Туров сотня дружинников киевского князя. Эти едут не торопясь, делая долгие привалы.
У сотника тайный наказ от Владимира. Дождаться, когда Святополк покинет Туров, забрать княгиню Марысю с её латинским духовником и доставить в Киев…
На третьи сутки за полночь гонец добрался до Турова. У закрытых ворот осадил коня, крикнул:
— Эгей, дозорные! — И застучал рукоятью меча по доске.
По ту сторону раздался скрип шагов на снегу, сердитый голос спросил:
— Кто будешь и зачем?
— Гонец князя Владимира к князю Святополку!
За воротами принялись совещаться. Гридин не выдержал:
— Что мешкаетесь, отворяйте!
Дозорные с шумом откинули засов, распахнули одну створку, впустили гридина. Старший дозора сказал:
— Поезжай за мной.
И, взяв за уздцы, повёл на княжеский двор. У людской остановились.
— Заходи, обогрейся, а я князю скажу…
Узнав о приезде гонца, Святополк накинул на исподние порты и рубаху шубу, прошёл в людскую. Гридин угрелся, задремал, сидя на лавке.
— Пробудись! — Святополк положил руку на плечо.
Тот подхватился, протёр глаза. Увидев князя, полез за письмом. Святополк отшатнулся, настороженно следил за гриднем. Наконец тот протянул свёрнутый в трубку лист пергамента.
Святополк поднёс к лучине, прочитал бегло, задумался. Гонец не сводил с него глаз. Вот Святополк свернул пергамент, спросил, уставившись на язычок пламени:
— Послал ли князь Владимир гонцов в Тмуторокань и Новгород?
— Того не ведаю, — ответил гонец.
— А князя Владимира, ты, гридин, самолично видел?
— К хворому князю вхожи лишь лекари да воевода с архиереем, меня же князь призывал к ложу и передал сию грамоту. А воевода по выходе из опочивальни наказал сказать: «Великий князь к смерти изготовился, поспешай, князь Святополк».
— Хорошо, передохни, гридин, прежде чем в обратный путь тронешься. А у меня же сборы недолгие, и дня не займут.
Из людской Святополк направился в опочивальню жены.
Хоромы тёмные, через гридницу переходил, чуть не стукнулся лбом о притолоку. Путь оказался слишком длинным, не терпелось поделиться радостной вестью с Марысей. Одна мысль оттеснила все: «Поспеть бы, пока Борис либо другой из братьев не сел на великое княжение… Бояр одарить щедро… Особливо тех, кто Владимиром недоволен, они опорой мне будут…»
Марыся, заслышав его быстрые шаги, оторвала голову от подушки, спросила удивлённо:
— Чем ты встревожен, Святополк?
Он остановился у её постели, ответил, не скрывая удовлетворения:
— Князь Владимир умирает. Мне ехать в Киев надобно.
Марыся уселась, поджав под себя ноги:
— Ты едешь, чтоб стать великим князем над всей Русью?
— Моё право на то. Отец мой Ярополк сидел на этом; столе.
— Тогда отправляйся, не теряй времени, да возьми с собой попа Иллариона. Не люблю я его.
Покинул Святополк Туров и не мог знать, что приезжали в город дружинники князя Владимира и по его указу увезли в Киев Марысю с её духовником Рейнберном.
…К Путше в Вышгород нежданно нагрянул боярин Тальц с недоброй вестью: Святополка князь Владимир обманом в Киев зазвал и в темницу кинул.
Мечется Тальц по горнице, рассказывает:
— Поверил Святополк болезни володимирской, приехал. Ин нет! Владимир-то уже здоров, а туровского князя схватили… Ещё слух верный имею, — Тальц к Путше наклонился, зашептал: — Жену его с латинянином ждут.
Путша боярина не слушает, холодным потом обливается: ну как скажет Святополк, что Путша в соглядатаях ходит и обещал ему доносить всё о князе Владимире?
Ноги и руки у Путши одеревенели от страху, сидит недвижим, глаза таращит на Тальца. Тот же ведёт своё:
— Надумал бы ты, болярин, как князя Святополка из беды вызволить. Ума-то у тя палата!
А у Путши и язык не ворочается. Наконец опамятовался:
— Бежать надобно Святополку!
— И, плетёшь такое, — замахал на него Тальц. — Караул у него крепкий!
— В таком разе просить архиерея Анастаса, чтоб слово за князя Святополка замолвил перед Владимиром.
— Разумно мыслишь, болярин Путша, — согласился Тальц. — Мы с Еловитом сходим к архиерею.