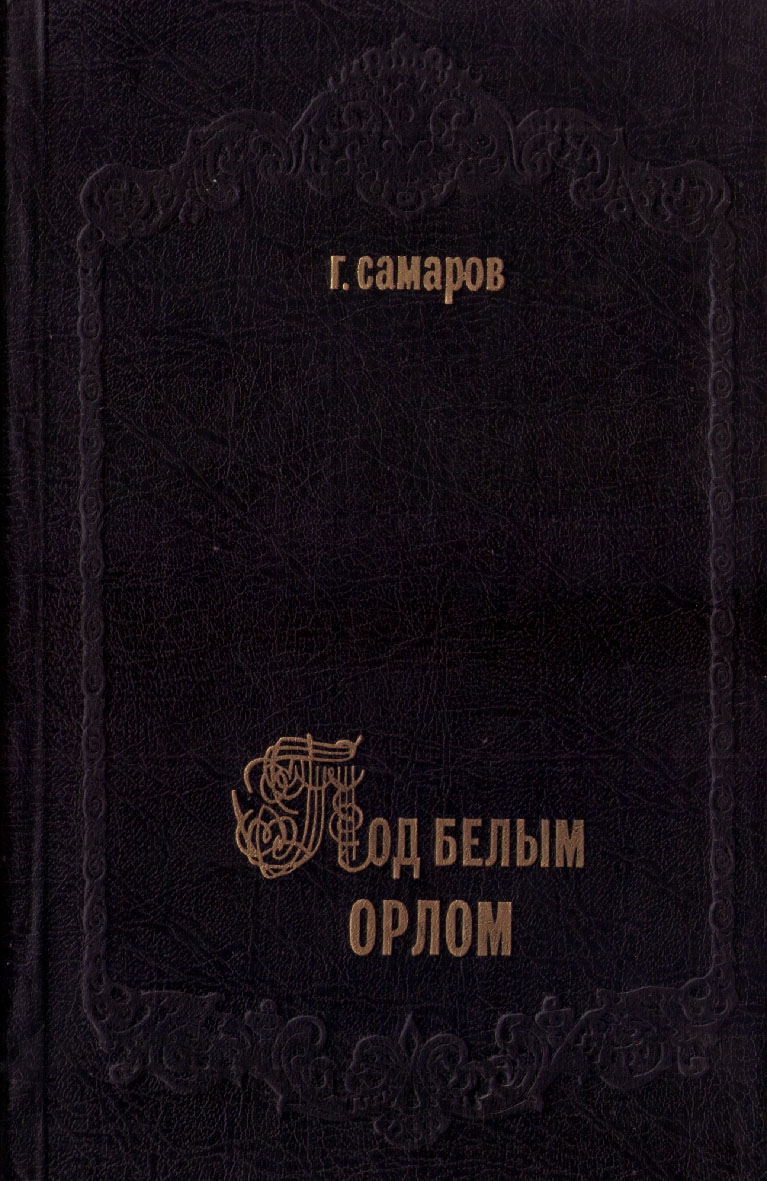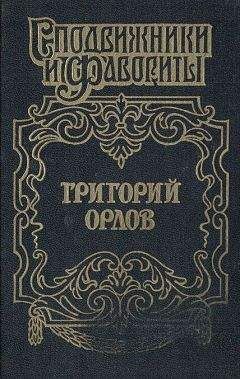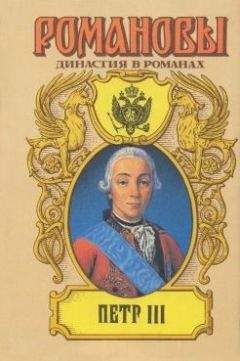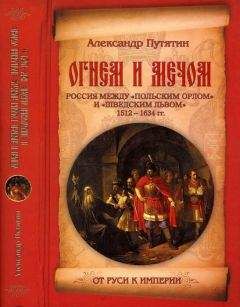с блаженной улыбкой шептали слова, находившие отзвук в глубине её сердца.
Пирш с поникшей головою молча шагал вдоль улицы; он не обращал внимания ни на дорогу, ни на поклоны некоторых встречных; он был потрясён до глубины души и едва ли мог дать отчёт: погрузился ли он из яркого дневного света в тупую дремоту с тяжёлыми снами, или, наоборот, был пробуждён от светлых, приятных сновидений к холодной ужасной действительности.
Вся его жизнь бессознательно развивалась в нём вместе с его любовью к Марии Герне. С этой любовью были связаны все его мысли о будущем, и в конце концов, после первого появления графа Игнатия Потоцкого, он с присущим своей натуре гордым упрямством ухватился за эту любовь, показавшуюся ему драгоценной собственностью, которую он должен защищать от нападений чужеземца. И вот эта любовь внезапно была изъята из его жизни; это лишило его всей опоры, всех воспоминаний и надежд, тем более что Мария лишь дружески, словно сестра, говорила с ним. После этого в его сердце уже не оставалось надежды; он был уверен, что её привязанность к чужеземцу, столь роковым образом ворвавшемуся в его жизнь, не была ни мимолётной игрою её воображения, ни плодом тщеславия; теперь Пирш был убеждён, что если Мария и обманется в своей любви, то лучше умрёт, чем обратится к нему; для него она была потеряна навеки. И это сознание жгло его душу, наполняло её глубокой печалью и вместе с тем бешеным гневом на весь свет и прежде всего на того, кто похитил у него сердце Марии. Если бы в эту минуту он встретил графа Игнатия, едва ли кто-либо из них сохранил бы жизнь. Но вместе с тем он почти ненавидел и презирал также и самого себя. Разве он не был глупцом и малодушным трусом, посвятив все свои помыслы любви к девушке, детской грёзе? И это при вступлении в жизнь, обещавшей его юному мужеству столько заманчивых прелестей!
«Нет, прочь от себя такое безумие!» — воскликнуло что-то в глубине его души, и им овладело непреодолимое желание устремиться в жизнь, как в огненное море, и в тысячах наслаждений найти себе забвение. Он чувствовал необходимость покинуть обстановку, окружавшую его до сих пор, так как ясно сознавал, что никогда не излечится от своих страданий, не найдёт душевного покоя, если всё вокруг будет, постоянно напоминать ему о потерянных юных грёзах у о его любви. Охотнее всего он сел бы сейчас на коня и, подобно странствующему рыцарю былых времён, пустился бы по белу свету искать битв и приключений и в быстрой смене впечатлений черпать себе душевные силы.
Погруженный в такие размышления, Пирш шёл всё дальше и дальше. Наступил вечер. Как и всегда бывает при больших душевных потрясениях, привычка взяла верх над телом. Сам не сознавая того, Пирш направился на Брудерштрассе, где он часто в этот вечерний час собирался вместе с товарищами в погребке гостиницы Винценти.
Тут он вдруг почувствовал, что кто-то коснулся локтя его руки; он поднял веки, словно пробуждаясь от глубокого сна, и увидел пред собою слугу. Последний почтительно поклонился ему и доложил, что в гостиницу прибыла знатная дама из Варшавы, желающая возможно скорее переговорить с ним. Он также сообщил Пиршу, что уже напрасно искал его в его квартире, и прибавил, что счастлив, встретив его здесь, потому что таким образом знатной и прекрасной даме не придётся более тщетно ожидать его.
Пирш молча уставился взором на слугу, но затем в его глазах вдруг вспыхнул огонёк и он сказал:
— Я иду... сейчас буду там.
Слуга поспешил обратно, чтобы сообщить о выполнении поручения.
— Это — она, — сказал про себя Пирш, — должно быть, она; кому же другому из Варшавы спрашивать обо мне? Не знак ли это, не привет ли бьющей ключом жизни, вознаграждающей меня за мои детские грёзы?
Молодой человек быстро последовал за слугой и вскоре уже был под воротами гостиницы. Винценти уже ожидал там и с почтительным поклоном принял молодого офицера, сразу выросшего в его глазах, так как столь блестящая и столь царски щедрая иностранка приказала пригласить его как её старого знакомого.
Доложив о приходе Пирша, Винценти провёл его в салон графини Браницкой, в котором уже был накрыт стол к ужину; следуя полученному распоряжению, слуга поставил второй прибор для Пирша.
Молодому человеку недолго пришлось ждать; вошла графиня Елена Браницкая в домашнем платье из пурпурного бархата, схожем с тем, в каком Пирш видел её в Могилёве, и с искренней сердечностью пожала ему руку.
Графиня была дивно прекрасна при неровном свете свечей; обаяние грации и нежной прелести окутывало её и пробудило в Пирше воспоминание об опьянении, которое охватило его в ту ночь в Могилёве и так быстро исчезло тогда пред образом его любимой подруги детства.
Молодой офицер поднёс руку графини к губам и дольше, чем требовала того форма рыцарской вежливости, продержал их прижатыми к этой красивой и тёплой руке.
Графиня, по-видимому, была удивлена его пылающим лицом и беспокойно горевшим взором. Она отдёрнула руку и сказала:
— Добро пожаловать, господин Пирш! Вы видите, я сдержала слово; я — надёжная союзница, не правда ли?
— Вы — великолепнейшая из женщин! — пылко воскликнул Пирш. — Нет в мире женщины, которая могла бы соперничать с вами; нет взора, который мог бы открыть подле вас другую прелесть.
Вошли лакеи графини и стали подавать ужин. Они брали блюда от слуг, приносивших их с кухни гостиницы, и сами прислуживали с тою молчаливою быстротою и уверенностью, которые сразу отличают слуг важных домов. Графиня угощала гостя с такою милою грацией, на которую она была большая мастерица, словно была в своей столовой в Варшаве или Белостоке. При этом она легко и свободно поддерживала разговор и умела коснуться тысячи вещей, не сказав ничего такого, что не должны были слышать лакеи, так что Пирш, несмотря на печальное состояние духа, в котором находился, был совершенно пленён этой очаровательной беседой, которая в совокупности с благородными винами из погребов Винценти взволновала его ум и сердце.
В обществе этой дивной женщины Пирш казался себе совершенно унёсшимся из круга повседневной жизни и ему самому было почти смешно, что он так тяготел к своему прошлому, которое в этот миг в сравнении с увлекательным настоящим казалось ему столь малоценным.
Его разговор становился всё оживлённее и непринуждённее, и графиню не мало удивляла та горькая ирония по отношению