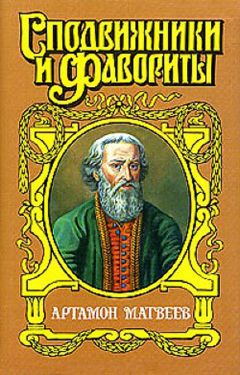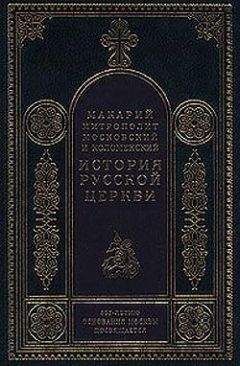— Данька — чернокнижник! — крикнули в ответ стрельцы. — Мы в его доме змей сушёных нашли, черепах! Погоди, царица, всё про него узнаем и тебе скажем!
Потащили бедного доктора через весь Кремль в Константиновский застенок.
Толпа же не убывала, росла. Все ждали выдачи Ивана Нарышкина.
Царевна Софья, похудевшая за два дня, но всё такая же розовощёкая, явилась к Наталье Кирилловне с боярами:
— Не избыть тебе, царица, чтоб брата Ивана Кирилловича не выдать. Не уйдут стрельцы без него. Али нам всем погибнуть ради Нарышкиной гордыни?
Бояре кланялись царице. Говорили, пряча глаза:
— Ничего не поделаешь... У них сила. Стрельцы все пьяны... Полезут во Дворец — всем нам будет смерть. И тебе, и сыну твоему...
Хорошо в царях пряники медовые кушать, но приходит час — плати за мёд да за яхонты. А плата — горше некуда: жизнями.
Не дрогнул голос у Натальи Кирилловны, сказала постельникам:
— Приведите Ивана Кирилловича в церковь Спаса за Золотой Решёткой.
И сама пошла в ту церковь. Софья и бояре — следом.
Иван Кириллович, выбравшись из чулана, застеснялся — весь в пуху. Переоделся. Пришёл в церковь спокойный, красивый. Поцеловал у Натальи Кирилловны руку.
— Ступай к Никите Васильевичу, причастись.
Иван Кириллович исповедовался, соборовался.
К царице подскочил боярин Яков Никитич Одоевский, руки трясутся, щека дёргается.
— Сколько ни жалей братца, а отдать его нужно! И ты, Иван, не тяни за нас душу. Ступай с Богом, не всем же из-за тебя погибать!
Царевна Софья подала обречённому на гибель образ Богородицы.
— Икона чудотворная, держи перед собой. Может, стрельцы устыдятся...
Наталья Кирилловна пошла первой, с нею Софья, за ними Иван. Вышли из храма к Золотой Решётке.
— Ваня! Родной мой! Прости! — застонала Наталья Кирилловна.
— Ничего! — Иван улыбнулся сестре. — Ничего! Живите!
Царевна Софья быстро-быстро крестила несчастного.
Стольники отперли решётку. Иван Кириллович, загородясь иконою, шагнул через порог.
Его тотчас ударили со всего плеча, ухватили за волосы, поволокли по ступеням.
Икона кувыркалась следом.
Пиная, тыкая кулаками ненавистного боярина — ещё и побоярствовать не успевшего — погнали в тот же Константиновский застенок.
Доктор валялся на лавке без чувств.
Ивана Кирилловича начали пытать крючьями, жечь огнём.
Докторишка на пытке такого о себе порассказал — до слёз насмешил. Просил дать ему три дня сроку, обещал указать всех, кто во много раз достойнее казни, нежели он.
— Долго ждать! — решили палачи.
Иван Кириллович был иной породы, все пытки стерпел. Ни слова от него не услышали.
Доктора Даньку после пыток пришлось волоком тащить. Иван Кириллович сам шёл. Доктора мешком кинули на плаху, Нарышкина поставили рядом.
Кузьма Чермный крикнул народу:
— Всем ли виден боярин? Кому не видно — увидите!
Доброго молодца подняли на копьях, поворотили туда-сюда и шмякнули наземь. И пошло. Рубили все, у кого было чем. На куски, куски на кусочки, кусочки и те надвое. Отойдя от Нарышкина, не пропускали и по доктору махнуть.
Красное месиво от обоих осталось.
Тихо пробудилась Москва — унесло бурю.
В единочасье зацвели вишнёвые сады.
Колокола на церквях звенели вполголоса, виновато. Стрельцы, одетые в рубахи, без ружей, без бердышей, без сабель, снова потянулись в Кремль. Встали перед Красным крыльцом. Впереди выборные.
К стрельцам вышли обе сестры Алексея Михайловича, Анна и Татьяна, и все его дочери: Марфа, Софья, Екатерина, Мария, Феодосия.
Большинство бояр бежало из Москвы, и впервые за всю долгую историю Руси и России царством правили царевны. Семь царевен.
Говорила же со стрельцами государыня Софья Алексеевна.
Выборные ударили челом: требовали тотчас постричь в иноческий чин боярина Кириллу Полуэктовича.
Несчастного старика, потерявшего за три дня двух сыновей и племянника, провели меж стрельцами в Чудов монастырь. Великий государь Пётр Алексеевич на пострижении указал быть боярину Семёну Андреевичу Хованскому да окольничему Кирилле Осиповичу Хлопову.
Главу рода Нарышкиных скорёхонько постригли, нарекли Киприаном и не мешкая повезли в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь.
— Нынче всё по-вашему делается, — сказала царевна Софья стрельцам и взяла с них слово, чтоб отныне убийств и грабежей не чинили, а «за верность» наградила каждого десятью рублями сверх жалованья.
Денег в казне не было, но царевна обещала собрать нужные тысячи с крестьян приказных людей и с крестьян, записанных за церквями. Зная, что этого не хватит, повелела чеканить деньги из серебряной посуды.
Обещанной награды стрельцам показалось маловато, тотчас ударили челом: пусть отныне полки называются «приказами», а сами они, служилые, — «надворною пехотой». В начальники над собою попросили боярина князя Ивана Андреевича Хованского.
Пожинал плоды победы над племенем Нарышкиных и главный заговорщик, боярин Иван Михайлович Милославский. Именем царя Петра записал на своё имя приказы Рейтарский, Пушкарский, Иноземного строя, приказ Большой казны, Дворцовый приказ. Он уже видел себя опекуном царя Ивана, великим правителем, но Господь не даёт рог бодливым коровам. Казну у Ивана Михайловича отобрали через два дня, через неделю — Пушкарский приказ, через месяц — Иноземный и Рейтарский. Поехал Иван Михайлович в деревню над мужиками своими власть показывать.
Стрельцам понравилось в Кремль ходить. 19 мая подали царю Петру ещё одну челобитную: о заслуженных деньгах. Считали с 1646 года и насчитали за государевой казной долга — 240 тысяч рублей. Сверх того просили отписать на надворную пехоту имения убитых вельмож.
Царица Наталья Кирилловна, не ожидая ни для себя, ни для сына своего доброго — от стрельцов, от Милославских, Хованских, от шатучего боярства, — перебралась с Петром Алексеевичем в Коломенское.
Царевне Софье пришлось стрелецкие запросы принимать и, затая вздохи, соглашаться со всем, чего бы ни пожелала слободская Москва.
Двадцатого мая стрельцы указали Кремлю отправить в ссылку в дальние города постельничего Алексея Тимофеевича Лихачёва, брата его, казначея Михайлу, окольничего Павла Языкова, чашника Семёна Языкова — сына убитого Ивана Максимовича, думного дворянина Никиту Акинфиева, двух думных дьяков, всех Нарышкиных, сына Артамона Матвеева — Андрея, стольников Лопухина, Бухвостова, Лутохина и всех бывших стрелецких полковников.
Приказано — исполняй.
На царстве сидел десятилетний Пётр, делами царства управляли царевны, но так, как вздумается Софье, а Софья указы получала от стрельцов. Вернее сказать, от стрельца Воробина полка Алёшки Юдина. Алёшка речей не говорил, не высовывался, но все челобитья сочинял он. Крестился Алёшка двумя перстами, почитал писаньица батьки Аввакума за истинную, за Божью правду.
Алёшка рассуждал просто: царь Пётр — сынок Натальи Кирилловны, Наталья Кирилловна — воспитанница Артамона Матвеева, Артамон — друг Алексея Михайловича и друг Никона, а Никон есть смута церковная. Бог не попустил, а то бы ведь водрузилась мордва над Русью православным папою, — а на челе-то у сего папы число «666».
Выходило: Ивана нужно на царство сажать. Дурак — не беда. Блаженных Господь любит. Посадить Ивана на царство — покончить с новыми обрядами, со всею никониянской прелестью.
Недолго размышлял Алёшка Юдин. Уже 23 мая стрельцы прислали выборных к царевне Софье: войско единодушно желает видеть на престоле Московского царства обоих царевичей, Ивана и Петра.
Двадцать пятого мая патриарх Иоаким послушно созвал Собор. И вот уже раскатывал над Кремлем медные звоны большой колокол Успенского собора. Отныне многие лета возглашать в церквях надлежало царям Иоанну и Петру.
Стрельцы потребовали уточнения, указали патриарху, царевнам и боярам: первым царём именовать Ивана, Петра — вторым.
На радостях Софья Алексеевна пожаловала «надворную пехоту»: в Кремле ежедневно кормили по два полка, подавая блюда с царского стола.
Благодарные едоки уже 29 мая ударили челом Боярской думе: по малолетству великих государей правительницей при них быть бы царевне Софье Алексеевне.
Дума, кое-как собранная, не перечила.
Так и сталось: в царях Иван-дурак да Пётр-несмышлёныш, но над ними сама Мудрость — Софья. Успокоением повеяло, а оно-то и было страшным для стрельцов.
Тихоня Алёшка Юдин, однако ж, не прошляпил, накатал ещё одну бумагу: «Бьют челом стрельцы московских приказов, солдаты всех полков, пушкари, затинщики, гости и разных сотен торговые люди, всех слобод посадские люди и ямщики. 15 мая, изволением всемогущего Бога и пречистые Богоматери, в Московском государстве случилось побитье, за дом пречистые Богородицы и за вас, великих государей, за мирное порабощение и неистовство к вам, и от великих к нам налог, обид и неправды боярам князь Юрье и князь Михайле Долгоруким, за многие их неправды и за похвальные слова: без указу многих нашу братью били кнутом, ссылали в дальние города, да князь же Юрий Долгорукий учинил нам денежную и хлебную недодачу. Думного дьяка Лариона Иванова убили за то, что он к ним же, Долгоруким, приличен; да он же похвалялся, хотел нами безвинно обвесить весь Земляной город, да у него же взяты гадины змеиным подобием. Князя Григория Ромодановского убили за его измену и нерадение, что Чигирин турским и крымским людям отдал и с ними письмами ссылался. А Ивана Языкова убили за то, что он, стакавшись с нашими полковниками, налоги нам великие чинил и взятки брал. Боярина Матвеева и доктора Данилу убили за то, что они на ваше царское величество отравное зелье составляли, и с пытки Данила в том винился. Ивана и Афанасья Нарышкиных побили за то, что они применяли к себе вашу царскую порфиру и мыслили всякое зло на государя царя Иоанна Алексеевича, да и прежде они мыслили всякое зло на государя царя Феодора Алексеевича и были за то сосланы. И мы, побив их, ныне просим милости — учинить на Красной площади столп и написать на нём имена всех этих злодеев и вины их, за что побиты; и дать нам во все стрелецкие приказы, в солдатские полки и посадским людям во все слободы жалованные грамоты за красными печатями, чтоб нас нигде бояре, окольничие, думные люди и весь наш синклит и никто никакими поносными словами, бунтовщиками и изменниками не называл, никого бы в ссылки напрасно не ссылали, не били и не казнили, потому что мы служим вам со всякою верностию...»