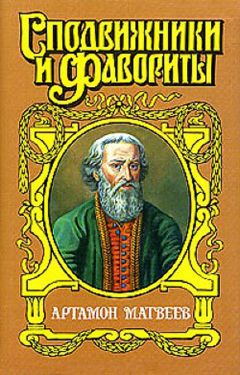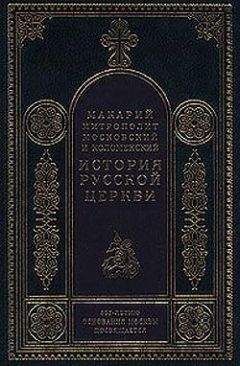Правительница Софья опять-таки поклонилась стрельцам: хотите столп — будет столп. Можно бы и золотой, да золота нет. Половиком стлалась царевна-правительница стрельцам в ножки, но Фёдор Леонтьевич Шакловитый, взявшийся служить царевне верой и правдой, уже собирал по её тайному приказанию дворянское ополчение. Уже вам будет — надворная пехота! Ужо!
Ставить столп вызвались полковник Ивам Елисеевич Цыклер да подполковник Иван Озеров.
И воздвигли на Красной площади высокий каменный столб. С четырёх сторон прикрутили к столбу четыре железных листа. На тех листах были вырезаны имена государевых людей, убитых за три майских дня: 15-го, 16-го, 17-го. Под именами сказаны вины убиенных.
На этих же листах золотою чеканкою прописана была царская похвала надворной пехоте за верную службу, а также права воинских людей и все их льготы.
То был первый русский памятник на Русской земле. И судьба его была как у всех русских памятников.
Больно жарко любим, ненавидим — до стона в жилах.
Тот немудрёный стрелецкий памятник был, однако ж, неповторимым. Славил убийц, но он же пригвождал к камню тех, кто грабил народ, кто поливал Русскую землю русской крестьянской кровью, не зная меры. (О князе Долгоруком речь).
Где нам такой-то памятник поставить. А надо бы, пусть на невечные времена, с именами разорителей великой России, с именами убийц прошлых и нынешних. Сто раз повторено: история никого ничему не научила, но память — она ведь лава кипящая! Вулкан молчит, дремлет, но уж ахнет — так огонь и дым до звёзд.
Малах ходил на влажные лесные полянки за лютыми кореньями, постегаться в баньке — лютые коренья молодят.
С корзинкой, полною золотых цветов, вышел к полю своему. На лужку паслась лошадь. Увидела хозяина, подошла, положила голову на плечо.
Малах погладил любимицу по доброй, всё понимающей морде.
Пшеничка поднималась густая, изумрудная. Ветерки бежали струями, и Малаха осенило:
— Вот оно, времечко-то! Весело течёт. — Сдвинул с глаз лошади чёлку. — Наше с тобой.
Вспомнил первую свою пахоту. У отца сидя на плечах, «пахал». Прост был батюшка, но ради его простоты к ним в избу мужики приходили из далёких деревень, из других уездов даже. Поговорить приходили. В отца, знать, уродился: о всей жизни беспокойство. Как не беспокоиться? В Москве опять беда. Кровь, грабёж. Был один царь, стало два, а нынче вроде бы уже троица. Баба в Грановитую палату впёрлась, сама на троне, а цари у ног её, на скамеечках — дурак и отрок.
Лошадь вздохнула, и Малах вздохнул.
— Всё ты у меня понимаешь... Бог с ними, с царями! Буря да град не побьют нивушки, засуха не иссушит, огонь не спалит, дождь не замочит — будем с хлебом.
Полез в корзину, достал со дна тряпицу. Блинков с собой в лес прихватил, да позабыл о них.
Дал блин лошади, другой сам ел. И ахнул.
— Видишь в поле-то? Рыжего? Коростель... Дружок мой. На крыльцо по вечерам сядешь, а они, дергуны-то, — дрын-дрын, дрын-дрын... Тут тебе и звёздочка загорится.
Малах разделил последний блин, половину дал лошади, свою половину ещё надвое. Кусочек в рот, остальные по земле раскрошил. Коростелю.
Подошёл к полю, коснулся ладонью вершинок стеблей. Стебли под ветерками пошевеливались.
— Ласковые мои детки, — сказал стебелькам Малах. — Я для вас силёнок не жалел, теперь уж вы сами старайтесь, растите.
Поглядел в небо, а оно немудрёное, синенькое.
— Не оставь нас, Господи! — попросил Малах.
На сердце у него было спокойно: чего-чего в жизни не случалось — не оставил его Иисус Христос одного со злом, все бури — добром кончались. Перетерпи — и Господь Бог наградит тебя подарочком, а подарочку цены нет — жизнь.
Малах в поле, Савва на корабле. Сидел, привалясь к корме, рекой дышал. На душе было уж так широко, высоко, как это случается на Волге, под нижегородскими необъятными небесами.
Накупив ярмарочных товаров, Савва пустился в очередное плавание и уже знал, с чем будет обратно. Подружился в Нижнем с текинскими купцами. Обещали привезти в Астрахань ковры. У текинских ковров было дивное свойство набираться с годами таинственного блеска и густоты цвета. Договорились и о большом ковре — три сажени на три. Такой ковёр, если он и вправду хорош, можно бы в Оружейную палату продать, а то и подарить ради царёвых очей, ради целования царской руки. Увы! Великие государи пошли ненадёжные. Фёдор во цвете лет помер. Иван да Пётр на роводках у царевны. Да Бог милостив: у бабьего всевластия век должен быть короткий.
Заложа руки за голову, Савва смотрел на небеса. Неужто вся его жизнь запечатлёна в сей бездне и придётся ответ держать за каждую слабину, а то ведь и за подлость... Много чего было срамного в жизни. И всё ведь по мелочам. Чего-то кому-то не дал, пожалел, на что-то польстился... А уж о гордыне лучше молчать. В столпники себя определял! С Богом собирался разговоры вести...
Во сне не приснится, что сталось. Савва погладил дубовый брус.
— Корабельщик...
А перед глазами уже зияла пустозерская яма, и Аввакум на дне. Сожгли батьку. Возвёл-таки на себя ярый царский гнев. Все писаньица! Правда! За правду только вступись — и пропала жизнь. Будут ломать, пока не согнут в дугу, а то и хребет сломают, не хуже медведя.
Небо синело безвинно. Сердце кровью умылось.
— Господи! Почему за служение Тебе, за Правду-то — нет человеку земных наград? Небесная жизнь, может, и чудо, среди лучей-то, без тверди под ногой, но ведь без материнства, без отцовства, без ласки чад, без того, что ты — ответчик за всякий прожитый день и час...
— Монастырь Макарьевский! — крикнул рулевой.
Савва поднялся.
— Приставать не будем. Ветер попутный. За ночь Васильсурск пройдём.
Солнце клонилось к закату. Монастырь сиял в лучах непорочною белизной.
«Вот преподобный Макарий, — думал Савва. — С отрочества в иноках. Отца не пожелал видеть, руку подал через стену. В иной жизни, мол, встретимся... Всех дел — усердный молитвенник, а какая слава была дана: булгарский хан отпустил из плена благоговейно, да ещё четыре сотни с ним. А это ведь рабы, богатство... Жил преподобный две сотни лет тому назад, но вот оно, его детище, — Желтоводский монастырь, да есть ещё и в галической земле — Унженский».
На себя переводил. Что останется от раба Божьего Саввы? Кораблик быстро сгниёт... Спохватился: грех унывать!
— Господи! Благодарю Тебя за всё, что посылал мне! Много по земле хожено, да и по водам. Не оставь сыновей моих, старшего и младшего. Дай нам жизни с Енафою не больше, не меньше, а сколько у Тебя записано в Книге.
Опять ушёл на корму, смотрел, как отдаляется Макарьевский монастырь, как земля, ставшая своей, кутается в голубую дымку. До Мурашкина отсюда часа два на лошадке.
Совестно стало — жить бы да жить у тёплого жениного бока.
— Зимой слаще! — сказал себе Савва, чувствуя озорство в биении сердца: простору радо, дороге.
У самого борта ухнуло. Брызги в лицо.
— На белугу, что ли, наехали? — крикнул Савва кормщику.
— Слава Богу, не на мель!
— Хозяин, ужинать пора! — позвали работники.
— Ушица?
— Лосятина! — откликнулся кашевар. — Мы же заднюю ногу купили в Нижнем.
— Ладно, — сказал Савва. — Отведаем.
И стоял, смотрел на Лысково, на почти домашние берега. Енафа с Малашеком тоже, должно быть, вечеряют.
Милые Саввины люди — сын да жена — рыбку удили на мельнице, возле плотины. День выдался золотой, вечер теплом ласкал. Рыба, разнежась, не спешила кормиться.
— Батюшка-то небось мимо Лыскова проплывает, — сказал Малашек, меняя червя на муху.
— Если в Нижнем управился с делами, так оно и есть, — согласилась Енафа. — Ну, кто из нас первым поймает?
— Везучий.
— Хитрец!
Малашек показал на храм, венчавший взгорье:
— Матушка, а ведь лепый. Купола не ахти велики, но к небу так и тянутся. Люди нас хвалят.
— Дядьям своим скажи спасибо.
Малашек кинул леску под стоящее колесо.
— Матушка, а Господь Бог нас наградит за такой-то храм?
Слёзы так и брызнули из глаз Енафы.
— За что нас награждать? Деньги на храм разбойные пошли.
— Мы же себе могли взять...
— Нет, — сказала Енафа, — не могли.
— А помнишь, как мы с тобой лошадь в лесу бросили, с телегой, с добром?.. Как милостыней кормились?
— Уж такая жизнь. Наплачешься и напляшешься... В те годы горе поверху плыло, вот мы его и хлебали.
— Ты меня отпусти к деду ниву косить. Он обрадуется.
— Отпущу, Малашек. На поплавок-то гляди! — и подсекла своего.