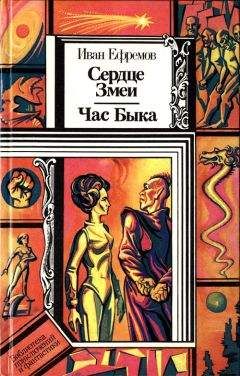— А что?
— Как что? Царская дочь, кровь Солнца, а ты и головой не кивнешь!
Дио улыбнулась и тут же, на ложе, стала перед ней на колени, как взрослые стоят перед детьми, когда их ласкают.
— Радуйся, царевна Анкзембатона, гостья моя дорогая, желанная! — проговорила от всего сердца и хотела поцеловать у нее ручку, но та ее быстро отдернула.
— Ну вот, теперь лезет к руке! Разве так царям кланяются?
— А как же?
— В ноги, в ноги! Ну да ладно, мне твоих поклонов не нужно, садись… Нет, стой, погоди!
Вдруг тоже стала перед ней на колени.
— Ну-ка, повернись к свету, вот так…
Дио повернулась лицом к стоявшей на полу, рядом с ложем, лампаде, цветочной чаше папируса из голубого стекла, на высоком алебастровом стебле. Анки приблизила лицо к лицу ее и, деловито наморщив лоб, начала ее разглядывать молча, пристально.
— Да, хороша, очень, — прошептала наконец, как будто про себя. — Румяна у тебя какие?
— Я не румянюсь.
— Ну-у!
Помочила на языке мизинец и, подняв его к лицу ее, спросила:
— Можно попробовать?
— Можно.
Анки тихонько провела по щеке ее пальчиком и посмотрела на кончик его, не покраснел ли. Нет, не покраснел.
— Чудеса! — удивилась она. — Сколько тебе лет?
— Двадцать.
— Как же такая молодая?
— А разве двадцать лет старость?
— По-нашему, да. В десять лет у нас выходят замуж, а в тридцать бабушки. Ну, да впрочем, у вас там, на севере, все по-другому: солнце старит, холод молодит, — повторила она с удовольствием, видимо, чужие слова.
Села по-прежнему, охватив колени руками, задумалась.
— Что ты смеешься? — спросила, опять глядя на нее в упор своим тяжелым взглядом.
— Я не смеюсь, а радуюсь, — ответила Дио.
— Чему?
— Не знаю. Так, просто, что ты пришла.
— У тебя все просто… Ты думаешь, я маленькая?… Что он тебе обо мне говорил?
Дио поняла, что «он» — Тута.
— Говорил, что ты умница, красавица и что он тебя любит больше всего на свете.
— Вздор! Это ты из любезности… Оба, должно быть, надо мной смеялись. Говорил, что я в куклы играю?
— Нет, не говорил.
— А вот и играю! Прошлым летом играла, и еще буду, если понравится. Мне все равно, что смеются. Царь говорит: «Маленькие лучше больших; мудрее, — больше знают. Вечность, говорит, дитя, играющее… играющее…»
Забыла, во что играет Вечность; покраснела.
— Ах, чтоб тебя, окаянный! Опять нашерстил, нагрел голову!
Сорвала с головы и отшвырнула парик. Тальковая чашечка звякнула об стену; стебель цветка сломался, и цветок повис жалобно.
— Думаешь, я для тебя нарядилась? Как бы не так! Во дворец иду, на вечерю…
Под париком обнажилась бритая голова с таким удлиненным, тыквоподобным черепом, что Дио чуть не вскрикнула от удивленья. Длинная форма голов у египетских девушек считалась особенной прелестью. Из Митаннийского царства, полуночной земли в верховьях Ефрата, откуда была родом Тэйя, мать Ахенатона, занесен был в Египет странный обычай вкладывать в лубки головы новорожденных детей, чтобы удлинять черепа. Все царские дочери были длинноголовыми. У знатных женщин, а потом и у мужчин тоже вдруг черепа удлинились: из тончайшей антилопьей кожи изготовлялись головные накладки, «царские тыковки».
Может быть, царевна Анки нарочно скинула парик, чтобы похвастать перед Дио: «У тебя, мол, румянец, а у меня царская тыковка!»
— А что, правда, говорят, ты колдунья? — спросила вдруг.
— Нет, не правда.
— За что же тебя сжечь хотели? Дио молчала.
— Опять не хочешь сказать?
— Не хочу.
— Бога Быка убила, Мреура вашего, Аписа?
Апис был Мемфисский, а Мреура — Гелиопольский бык, воплощенный бог Солнца.
— Был и у нас Мреура, — продолжала Анки, не дождавшись ответа. — В позапрошлом году умер. Я его очень любила. Старенький, слепенький. В стойло, бывало, зайду, обниму, целую в морду, а он меня языком лижет в лицо, мычит на ухо, как будто сказать что-то хочет… И такого убить, Господи! Все равно что ребенка…
Помолчала, поглядела на нее исподлобья и вдруг объявила:
— А во дворце вощанку нашли.
— Какую вощанку?
— Восковую куколку, заговоренную; сердце иголкой проколото; чье на вощанке имя, тот умирает. Имя царя было на ней: в царской спальне нашли…
Еще помолчала и спросила:
— Сколько дней, как приехала?
— Пять.
— А вощанку третьего дня нашли.
— Ну так что же?
— Ничего. Языки у людей незавязанные, мало ли что говорят… А ты что все дома сидишь, только по ночам выходишь, прячешься?
Злой огонек блеснул в глазах ее, губы задрожали, лицо искривилось, и, глядя на Дио в упор, спросила она задыхающимся шепотом:
— Ты его наложница?
— Чья?
— Тутина.
Дио всплеснула руками:
— Ох, царевна милая, какой вздор!
— Почему вздор?
— Потому что я ничьей наложницей быть не могу: жрицы Матери — вечные девы. И потом, у каждого свой вкус. Его высочество… Можно правду сказать, не рассердишься?
— Говори.
— Его высочество очень хорош, но мне совсем не нравится!
Анки посмотрела на нее, глубоко вздохнула, как человек, у которого внезапно прошла сильная боль, и прошептала:
— Правда?
— Ну, посмотри мне в глаза, разве не видишь, что правда?
Анки заглянула ей прямо в глаза; потом отвернулась, закрыла лицо руками, и вдруг худенькие плечики ее задергались, все тело затряслось от неслышных рыданий.
Дио подсела к ней, обняла ее и прижала к себе длинную, бритую головку, «царскую тыковку».
— Не веришь?
— Нет, верю. Я ведь давеча знала, что все вздор — и колдунья, и вощанка. Я все нарочно…
— Так о чем же ты плачешь?
— О себе, о себе, что такая злая, подлая! Я тебя как увидела давеча, сразу полюбила и разозлилась. Я всегда, кого люблю, злюсь на того… Ох, да ведь ты еще всего не знаешь! Я карлика Иагу, — старый слуга, верный пес, любит меня, как душу свою, — я его подговорила, чтобы тебя убил, если правда, что ты Тутина наложница. Я бы и его и себя убила, — вот я какая! Как бес в меня войдет, все могу сделать…
Опять заплакала.
— Ну, полно же, полно, девочка моя хорошая, солнышко мое ясное! — шептала Дио, гладя ее по голове, и вдруг вспомнила, что так же, с теми же почти словами, ласкала Эойю. — Все прошло, кончено! Будем любить друг друга, хочешь?
Анки ничего не ответила, только прижалась к ней крепче. Дио молча поцеловала ее в губы и сама заплакала от радости.
Радость, как солнце, вставала в душе ее, и таял в ней давешний страх, как тень в солнце.
«Милая, милая девочка, — думала она, — это он сам, Ахенатон, Радость-Солнца, послал тебя ко мне вестницей радости!»
Радость возвестила людям, в безмолвии ночи, труба. Одна, другая, третья, и десятки, и сотни труб трубили Атонову песнь:
Чудно явленье твое на востоке,
Жизненачальник Атон.
Посылаешь лучи твои, — мрак бежит,
И радостью радуется вся земля!
Трубы трубили во всех концах города, отзываясь в горах многоголосыми гулами. Как петухи перекликаются, ночью солнце поют, так и эти трубы в тот предутренний час, когда сон людей смерти подобен, как пелось в Атоновой песне:
Люди лежат во тьме, точно мертвые:
Очи закрыты, головы закутаны;
Из-под голов у них крадут — не слышат во сне;
Всякий лев выходит из логова,
Из норы выползает всякая гадина;
Воздремал Творец, и безглагольна тварь.
Но спящих будила труба, как некогда Господень зов разбудит мертвых. Старики и дети, рабы и свободные, бедные и богатые, чужеземцы и египтяне — все бежали навстречу грядущему солнцу, богу Атону.
Дио проснулась от звука трубы в маленькой часовне Атонова храма, где спала в эту ночь, с хором певиц, игральщиц и плясуний, которые должны были сопровождать ее в пляске перед царем.
— Трубы трубят, трубы трубят! Вставайте, девушки! Солнце рождается, радуйтесь! — услышала она говор проснувшихся.
Обнимались, целовались, поздравляли друг друга с новым солнцем — новою радостью.
Взбежали на плоскую крышу храма.
Ночь была теплая; ветер с юга подул после полуночи, и вдруг потеплело. Белые, круглые, большие облака плыли по небу, как паруса. Мутно-пушистые звезды мигали, как задуваемые ветром огни, и ущербный, выщербленный месяц, желтый, как латунь, падал, опрокинувшись, на черные зубцы Ливийских гор.
Небо, воды, земля, злаки, звери — все еще спало; только люди проснулись. Город внизу кишел как муравейник. В окнах домов зажигались огни, плошки дымились на кровлях, факелы рдели на улицах, и темные толпы текли по ним, как темные воды. Слышался гул голосов, шелест шагов, топот копыт, грохот колес, ржанье коней, воинский клич, и надо всем немолчные зовы труб — Атонова песнь: