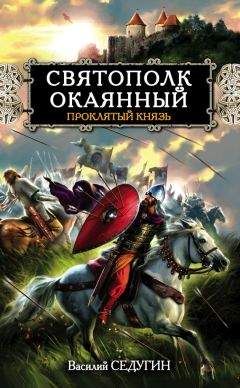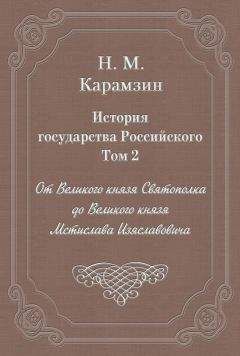Ближние бояре все тянулись чарками к счастливому Владимиру, поздравляли, хотя что уж там: сколь он произвел сынов-то, поди, и сам счета не ведает. Но тут особая стать, те-то от язычниц рождались, а этот от христианской багрянородной царицы, да и сам в багрянице рожденный.
— С сыном тебя, Владимир Святославич, с наследником.
— Спасибо, спасибо, милые, — радостно улыбался князь.
И тут нелегкая принесла Блуда с его языком поганым:
— Владимир Святославич, на Торге ныне один волхв-ведун кричал нехорошее про Бориса-то.
— Что? — посерьезнел великий князь, в глазах появилась жесткость.
Блуд, заметив, струхнул, хотел на попятную, кляня в душе себя, да поздно было.
— Ну говори, что кричал волхв о сыне моем?
— Да так. Ерунда. Собака лает, ветер носит, — пытался увильнуть Блуд.
— Говори, — насупил брови князь.
И за столом стал стихать шум, пирующие почуяли неладное.
— Да богомерзкий волхв кричал, что-де родился у великого князя сын в кровавой горнице и что-де конец ему такой же грядет, в крови захлебнется.
Вокруг князя стало тихо, шумело лишь дальнее застолье. А здесь даже жевать перестали. Смотрели то на Блуда, опоганившего праздник, то на князя, глядевшего предгрозовой тучей.
— Анастас, — тихо молвил Владимир.
— Я здесь, князь, — поднялся милостник.
— Завтра же вели найти волхва этого и за богохульство вырви ему язык. Слышишь?
— Слышу, Владимир Святославич, исполню, как велишь.
Приказ отдан, приказ принят к исполнению, можно бы и дальше веселиться. Но не идет веселье, умолкли гусли, погас смех.
И какой после такого праздник?
Владимир Святославич встал из-за стола. Это был знак к окончанию пира.
Воевода Волчий Хвост, вздохнув, сказал громко:
— Будь моя воля, я бы допрежь Блуду язык окоротил.
— А что? — взвизгнул Блуд. — Я неправду сказал? Да?
Но никто ему не ответил. Все стали расходиться от праздничного стола.
Ох уж этот Блуд со своей правдой, принесла его нелегкая. Не зря в народе молвится — ложка дегтя испортит бочку меда.
Дозоры от Трубежа прискакали с тревожной вестью: «Идут из Засулья печенеги!»
Владимир Святославич приказал трубачам играть большой поход. Со всех улиц Киева устремились ко дворцу жители и дружинники, кто на коне, кто пеший. Пешими был в основном простой люд, но всяк со своим оружием: кто с мечом, кто с копьем, кто с палицей, а кто с рогатиной, с которой на медведя хаживали. В большой поход полагалось выступать всем, кто мог держать оружие в руках. Бывало, что на рать уходили из семьи все мужчины — отец с сыновьями, — оставляя дома одних женщин.
Князь немедленно выступил со своей конной дружиной, вместе с ним подались и воеводы Волчий Хвост и Жидьберн со своими дружинами и тоже на конях.
Пешими ратниками командовал тысяцкий Путята, сам ехавший верхом на коне.
Когда дружины Владимира подъехали к реке Трубеж, с другой стороны уже подступили печенеги. Противники стояли на разных берегах, и никто не решался переправляться через реку. Каждый надеялся, что во время переправы перебьет в реке половину неприятелей стрелами и копьями, а остальных сбросит в воду на подъеме из реки. Потому и кричали через реку друг другу, подзадоривая и дразня:
— Ну что встали? Испугались?
— Чего, нам пугаться? Идите сюда, мы вам покажем свой страх!
С обеих сторон летели стрелы, которые, впрочем, не наносили особого вреда никому. Разве когда попадали зазевавшемуся в лицо или руку, да и то обычно на излете.
Так до ночи никто и не перешел реку, а потом зажглись костры на обоих берегах, приспела пора готовить походный ужин. У реки остались только сторожа — и с той, и с другой стороны — предупредить своих, если вдруг супротивник вздумает переправляться ночью. Эти тоже не давали спуску друг другу, чтоб не уснуть, срамословили. Русские обзывали печенегов: «Печенег — свиное рыло!» И было им смешно. Печенеги не оставались в долгу: «Рус — битый зад!» И тоже хохотали. Русские дивились такому ругательству, ничего смешного, а тем более обидного в нем не находя. Другое дело «свиное рыло» — это смешно. Однако у печенегов «битый зад» были самые оскорбительные слова, особенно для мужчин. Поскольку все они почти с колыбели садились на коней и никогда с них не слезали, разве что поспать. А зад на коне мог сбить только неумеха. Это считалось позором. С кем же, как не с русским, могло такое случиться.
На следующий день рано утром к реке с печенежской стороны подъехал сам хан в сопровождении своих старшин, и один из его провожатых, наиболее голосистый, крикнул русским:
— Эй, русские, зовите своего князя, с ним хочет говорить князь Темир.
Позвали Владимира Святославича. Он приехал к реке в сопровождении воевод Жидьберна и Волчьего Хвоста.
— Я князь Темир. Как твое здоровье, князь Владимир? — крикнул печенег.
— Спасибо, не жалуюсь, — отвечал Владимир.
— Это карашо, совсем карашо, — сказал печенег. — Владимир Святославич, зачем нам губить своих людей в сече? Давай решим по-другому, по справедливости. Пусть нас боги рассудят.
— Ишь ты, про бога нехристь вспомнил, — проворчал Волчий Хвост.
— Давай по справедливости, — отвечал Владимир, все еще не догадываясь, куда клонит печенег.
— Давай решим единоборством. Я выставлю своего богатыря, ты своего. Пусть будут безоружными, пусть поборятся. Твой победит — я три лета не беспокою тебя, мой — три лета твою землю мала-мала грабим.
— Ну что ж, я согласен.
— Тогда вот мой богатырь. — Темир указал на одного из воинов своей свиты и поманил его рукой, чтоб вышел вперед, пусть русские увидят.
Князь и воеводы разглядели печенега. Это был огромный детина, казалось, даже конь под ним прогибался.
— Здоров бугай, — заметил негромко Волчий Хвост. — Что-то не припомню в нашем войске такого.
— Надо поискать, — отвечал ему так же негромко князь. — Не может быть, чтоб среди русских не сыскалось достойного противника этому бугаю.
А печенегу крикнул громко:
— Хорошо, Темир, мы принимаем твой вызов. Как только будет готов наш воин, сообщим.
И, повернув коня, поехал к своему шатру, белевшему вдали.
В тот же день по войску рассыпались бирючи — звать силача на единоборство с печенегом. Однако быстрее бирючей пронесся слух о печенежском богатыре: гора — не человек. Ему наших на одну руку десять положить надо.
Оттого, наверное, и не находилось желающего помериться силой с человеком-горой.
Весь день мотались по войску бирючи, глотки надорвали, но так и не сыскался охотник. Совсем приуныл Владимир Святославич. Сидя в шатре своем, одно бормотал:
«Срам-то какой, не могли от земли Русской сыскать силача на поганого».
Вечером, когда уж и солнце зашло, появился у княжеского шатра старик в коротеньком бахтерце[48], шитом из воловьей кожи.
— Чего тебе, дед? — спросил его стоявший у шатра дружинник.
— Мне к князю бы надо.
— Ему, дед, не до тебя, у него о другом думка.
— А я по этой думке и пришел. По той самой, насчет единоборения.
— Уж не хошь ли сам на поганого? Ха-ха-ха.
— А ты зубы-то не скаль. Сказано тебе, мне князь нужон.
Хотел дружинник дать старику по шее, но тут из шатра раздался голос князя:
— Пропусти! Чего куражишься над старым?
Старик вошел в шатер княжеский, где уже горели свечи в медном шандале.
— Добрый вечер, великий княже.
— Добрый, да не очень, старик. Ну что у тебя?
— Я Усмошвец, князь, пошел за тобой, забрав всех своих старших сыновей, вооружив по силе возможности.
— Сколько их у тебя?
— Трое, князь.
— Что? Кто-то из них сможет с поганым помериться?
— Нет, князь, старшие вряд ли. Но у меня младший есть, я его дома оставил на хозяйстве. Вот в нем сила страшная. Еще было ему двенадцать годков, как он мял бычью шкуру, мы ведь кожемяки, князь. А я его начал бранить за что-то. Его моя брань шибко сердила, а показать мне свой гнев побоялся. Так осерчал на меня, шкуру-то и порвал. Вот сила-то. Это в двенадцать-то лет.
— А сейчас ему сколько?
— Семнадцать уж молодцу.
— Ты что, смеешься, старик? Такого отрока пускать на этого бугая. Да он его одной лапой прихлопнет.
— Ай, князь, неужто я враг своему дитю? Он, Ян-то, двух старших братьев шутя сбарывает.
Ну что? — взглянул князь на Путяту, сидевшего тут же. — Что молчишь, тысяцкий?
— Думаю, попробовать надо. Больше ведь охотников нет.
— Ладно, старик, давай сюда своего молодца. Поглядим на него.
— Но я пеш, князь. Мы же ратники, не в дружине.
— Путята, распорядись дать ему коней.
И старик уехал в ту же ночь. Явился он с сыном лишь к вечеру следующего дня. Увидев этого юношу, князь расстроился: молодец был среднего роста, печенежскому бугаю, наверное, по плечо станет, коли не ниже. Разочарование князя не ускользнуло от внимания приехавших.