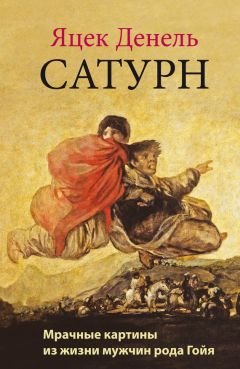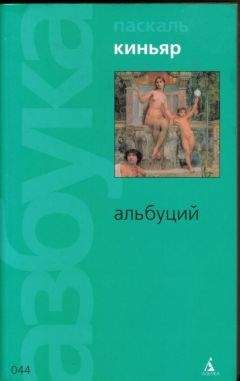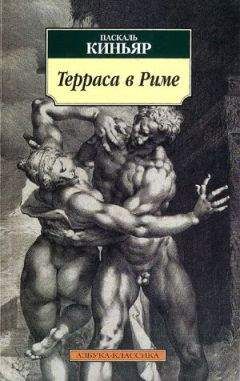Что делать? И в самом деле, кофры собраны, готовы в путь, а разрешения покинуть город у нас нету. Кто-то донес. Но кто? Понятия не имею. Прислуга, прачка, муж Леокадии? Ищеек как собак нерезаных. В карманах у них еще позванивают мараведи, дарованные прежними всесильными за их наушничество, а они уже наперегонки спешат-торопятся доносить новой власти.
Безбрежна застилающая мир кромешная тьма, глубокая, всеобъемлющая; продираешься сквозь нее из последних сил, ноги по самую лодыжку вязнут в бурой темноте, а сама она, потревоженная, хлюпает; впитавшие мрак тучи ползут по мрачному небу, как комки отяжелевшей от чернил пропускной бумаги, которой осушали письма с самыми что ни есть дурными известиями.
Но они идут, идут нескончаемой чередой, нет ей ни конца, ни начала, а пускаются в путь из разных мест: из горных ущелий и городских ворот, из старых дворцов и обычных домов, из монастырей и патио; тянутся сперва поодиночке, но чем дальше, тем становится их больше, тем плотней сбиваются они в одно целое. Монах в капюшоне рука об руку с опирающимся о посох сумасбродом, лысеющий мыслитель со сжатыми губами, взирающий униженно и в то же время пытливо, а рядом разливающийся соловьем исполнитель sainetes так разинул рот, что в него легко забросишь гнилой апельсин. Бродяги и попрошайки, тайная полиция[70] в плащах и цилиндрах и маха во вдовьей мантилье (при первой же возможности она не преминет ее сбросить).
Сноп света извлекает их из мрака, а они сбиваются в кучу в растерянности: повернуть ли назад от такого сияния святости или же решиться пойти дальше, до самого источника этой святости.
Город болен, снедаем плесенью и тифом, десятью казнями египетскими, гневом и отчаянием, чужеземные армии сменяют в нем одна другую, как полчища тараканов в разноцветных панцирях, – а тем временем здесь, на берегу Мансанареса, в Сан-Исидро, бьет ослепительный источник света, и тянутся они к нему, как безмозглые мотыльки в ночи.
И лишь когда совсем приблизятся, до них доходит: то, что светится, что слепит их своим блеском, – это чудовище. Разглядишь его в их расширенных от страха глазах. Но некоторые даже и тогда его не видят.
Говорит Хавьер
По выжженной земле, меж полей, засеянных зараженным спорыньей зерном, тащилась то одна армия, то другая, кровь впитывалась в песок, будто хотела проникнуть в самое сердце земли, а по нашей улочке и далее через Сеговийский мост экипаж катил за экипажем, богатые дамы прогуливались в каретах с плотно занавешенными окнами – не разглядишь ни банта на голове, ни прядки волос, ни отблеска бриллиантовой брошки.
Ничто не могло вышибить его из самодовольства. Новый монарх[71] сохранил за ним должность придворного живописца, сам он сделал большую серию гравюр с боем быков и изо дня в день что-то писал. А если не писал, то выходил в сад, отдавал распоряжения старому Фелипе, впрочем, тогда еще не совсем старому, а потом вдоль шпалер подходил к кустам малины и артишокам, поднимал веточки и листочечки, тискал их и целовал.
«Влюбленный в репу» – так можно назвать его карикатуру, где осел бьет поклоны зелени.
Никто и ничто не могло ему навредить. Один «доброхот» обвинил его в сотрудничестве с французами, дескать, по приказу Бутылки помогал отбирать из королевской коллекции самые ценные картины, которые позднее отослали в Париж алчному коротышке, – оправдался играючи, мол, кроме нескольких шедевров, что и без него указали сами оккупанты, из подвалов и чердаков вытащил один лишь хлам. Другой донес, что он-де получил от Бутылки орден – да, получил, но не носил; заручился письмом от священника, взял пару свидетелей, и все пошло как по маслу. Какой-то чинуша откопал в главном хранилище изъятых холстов несколько картин из дворца Годоя и погнал в Тайную палату суда инквизиции сообщить, мол, такой-то и такой нарисовал голую бабу, – его даже собирались отдать под трибунал – и ничего. Как с гуся вода. А в конечном счете ведь только его четыре полотна и висели на триумфальной арке, через которую в Мадрид въехал на коне монарх. И хоть новый король терпеть его не мог, впрочем, взаимно, жалованье первого живописца Его Величества текло непрекращающимся потоком. А от него самого требовалось всего ничего; правда, он махнул какое-то гигантское полотнище с «Заседанием Общества Филиппин»[72], на котором ковер и стена вышли куда интереснее, чем лица короля и сановников, но тогда при дворе на регулярной службе находился кто-то другой, и тому приходилось запечатлевать скучнейшие торжества и министров во фраках (на полотнах этих разглядишь каждую ниточку золотого шитья). А у него клиентов и без того хватало. Приезжали англичане, приезжали французы. Просили показать картины, а он весь пыжился, надувался, напускал на себя важность и приказывал вытащить то старые холсты, то новые и не жалел самому себе комплиментов. И не было такого доброго слова, какое бы он сам о себе не ввернул.
Все эти вереницы посетителей перемещались у меня перед глазами, будто во сне, – комнату, что находилась рядом с мастерской, переделали в антишамбр[73], и оттуда слышались приглушенные, исполненные пиетизма разговоры. Будто за мольбертом стоял не облезлый старик, вожделеющий молоденькую женщину, ублажающий ее, вспотевший, глухой как пень, а какой-то мессия, волхв, к которому приходят за советом.
Уж что-что, а снискать расположение он умел, у всех без исключения. Что может быть отвратительней?
Говорит Франсиско
Мадрид – не для старика. Коль не сломаешь ногу на выбоинах, так поскользнешься на валяющихся отбросах; никто тут не убирает, только аббатство Святого Антония выпускает сюда свиней попастись, роются они в кучах гниющих нечистот или же, испугавшись грохота экипажа, пускаются наутек, не разбирая дороги, по улочкам и переулкам, сбивая с ног прохожих. Летом все прожарено, как на сковородке, зимой грязищи и слякоти по щиколотку. А стоит только на манер больших господ выехать на берег Мансанареса, как можно и свежим воздухом подышать, и стрельнуть в перепелку или зайца, да хоть из окна гостиной, если подберется поближе, чтоб обгрызть молодые ростки на грядках. Сам король Карл IV, царствие ему небесное, как-то обо мне сказал: «У нашего-то пачкуна страсть к охоте побольше моей будет!» Такие слова обязывают.
Да и Букашечке есть где порезвиться, пройдется она по садику, в тени преклонит головушку, вдохнет не городской смрад и пыль, а запах скошенной травы и поспевающих вишен… и как это я раньше не додумался вырваться из города, купить что-нибудь недорогое, скромное?! В конце концов у меня, в моем возрасте, полное право спокойно отдыхать и появляться при дворе лишь тогда, когда я там действительно нужен, – королю не пристало экономить на курьерах. А тот, кто захочет иметь портрет кисти Гойи, может и потрудиться да проехаться немножко через Сеговийский мост, туда, где когда-то была пустынь Ангела-хранителя. Пустынь – это хорошо, это в самый раз для такого нелюдима, как я. Двадцать восемь фанег[74] пахотной земли, сад, огород, домик, может, и небольшой, но удобный, спокойно поместимся в нем с Леокадией и малышкой Росарио, да и когда из города приедут Хавьер с Гумерсиндой и Марианито, тоже есть где переночевать… два колодца, один во дворе, другой среди овощных грядок, а их не так мало – чего же еще желать-то за шестьдесят тысченок?! Всюду, куда ни глянь, жизнь: побеги идут в рост, фрукты поспевают – этим я могу любоваться часами… Ха-ха-ха, я всегда говорил, что у меня три учителя: Веласкес, Рембрандт и природа. Веласкеса я имею в королевской коллекции, Рембрандта – на гравюрах, а природа была лишь тогда, когда мы с Мартином отправлялись на охоту. Теперь же она у меня под самым носом, под моим здоровенным носярой, и буду я им вынюхивать все ее сокровенные запахи.
Да еще и название: Дом Глухого[75]. В самую точку. Встретились мы с ним у писаря, чтоб купчую заверить… и стоим вот так, друг напротив друга, и понимаем все, каждую мелочь, каждую морщинку на лицах тех, кто на нас смотрит. Два старых глухаря. Он-то – деревенщина, а я – живописец, но перед лицом глухоты мы равны; оно было видно по быстроте, с какой мы читали вопросы писца, он их писал в наших блокнотиках, а нам, чтоб понять, достаточно было первых букв.
Говорит Хавьер
Развязность перешла всяческие границы, я порой радуюсь, что мать не дожила до сегодняшнего дня. Не видит, как эта женщина хозяйничает, будто у себя дома. Не видит, как липки их жесты, как старик смотрит на нее, как она покачивает бедрами, как гладит его по зарастающим щетиной ушам – фу, мерзость. Если б не уговоры Гумерсинды, мол, нужно навестить их за городом, чтоб и Марианито было где побегать и чтоб мы «мило провели время с сеньором свекром», ноги бы моей там не было. Но уж лучше выбраться туда с корзинами еды, чем ругаться с ней целую неделю, по сути все из-за того же.