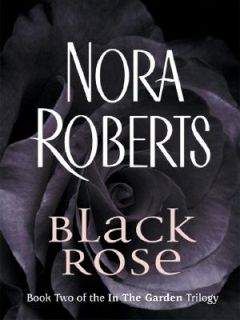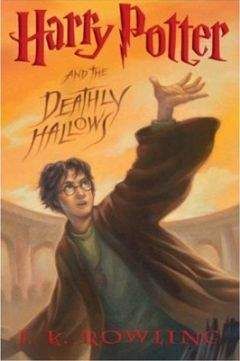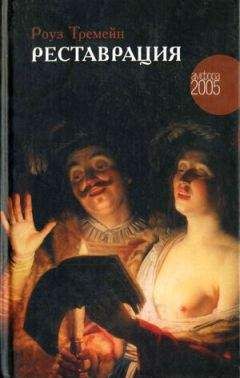Инчбальд тебя когда-нибудь бил? – прошептала Лили Бриджет.
– Нет. Бывало, он злился, если покупатели не платили, и бил кулаком по прилавку, но меня никогда не трогал.
– Почему покупатели не платили?
– Не знаю. Они говорили: «Запишите на мой счет, мистер Инчбальд. Запишите на мой счет».
– А что такое «счет»?
– Это листок бумаги, где ты записываешь числа, которые потом складываешь и отдаешь лист покупателю, и просишь заплатить, но он часто говорит: «Все верно, и вопросов нет, мистер Инчбальд, но мне нужно немного времени, чтоб подкопить грошей».
– А что значит «гроши»?
– Это то, чего у него нет, например серебряный шестипенсовик или полкроны. И вот тогда мой приемный отец бил кулаком по прилавку. Он говорил, что от некоторых людей ему хочется выть.
– Но у нас ведь есть твой серебряный шестипенсовик.
– Им мы заплатим за омнибус. Но если мы проголодаемся, то нам придется воровать.
– Или мы можем стащить булочку с сахаром и сказать: «Запишите на наш счет, мистер Инчбальд!»
От этих слов Бриджет хихикнула. Ее писклявый смех прозвучал в темноте так громко, что возница тотчас окликнул лошадь и подвода загремела, затряслась и встала. Бриджет и Лили еще сильнее вжались в мешки с чаем, но через секунду парусину подняли, и желтое сияние фонаря осветило их, и они услышали, как выругался извозчик.
– Отродья Корама, да? – сказал он. – Не вы первые, не вы последние. Теперь мне придется впустую потратить столько ценного времени, чтобы отвезти вас обратно.
– Мы не хотим обратно, – прошептала Лили.
– Не хотите? Не хотите? – сказал мужчина с толстой, как тюфяк, шеей и в картузе, который он заламывал назад, чтобы этот тюфяк не застудить. – Хотите не хотите сколько влезет, но здесь хотениям не сбыться. Не в этом Богом забытом городе.
Улица называлась Мавритания-роуд. Говорили, что два столетия назад самодержец из Восточной Европы построил здесь дворец, но его сожгли бедняки, жившие подле ворот, и заново дворец так и не отстроили. Сейчас же на его месте стоял ряд покрытых копотью домов, соединенных друг с другом, на некоторых были намалеваны гирлянды букв, заменявшие вывески для мелких торговцев: «Онести и сыновья. Ростовщики», «Гэллап и компания. Сапожники», «Товарищество Гринграсс. Поставляем чистопробный джин».
И уже в самом конце улицы, на последнем здании, вытянутом к чистому небу под почти невообразимым углом, виднелась надпись: «Дом спасения».
Это Белль невольно привела к нему Лили.
Как-то раз, болтая с Лили о прошлом, о хороших работницах и плохих, она заявила:
– Была у меня только одна такая же умелица, как ты. Много лет назад. Не помню ее имя. Что помню – с ней случилась неприятность. Она была религиозная девица и не сумела вынести позора.
– Какого позора?
– Она была не замужем, но понесла. Я разрешила ей остаться и работать на меня. Сказала ей, что я и сама далеко не образец морали. Но ближе к сроку разрешения она ушла. По слухам, дитя она отдала.
Лили молчала. Она смотрела, как Белль берет со стола зеркальце и изучает в нем мазки румян на своем лице, а затем принимается равномернее размазывать их по своей белой коже.
– Как можно жить с самой собой, – сказала Белль, – если решишься на такое?
Раздумья об этом Лили принесла с собой на Ле-Бон-стрит, она легла на узкую кровать и задрожала. На следующий день она подошла к Белль и спросила:
– Вы потом еще видели ту женщину, что не снесла позора?
– Кого? А, ту бедняжку. Нет, больше ни разу ее не видела.
– И не слышали, что с ней стало?
– Только очередной слух, который мне принес один из резчиков – его давно уж нет в живых. Он рассказал, что, кажется, видал ее – или кого-то на нее похожего – в Бетнал-Грин. Пошел за нею следом, хоть и не знал, она ли это, и видел, как она заходит в лавку без приличного крыльца, но только с надписью над дверью: «Дом спасения». С тех пор прошли годы, и мы про нее совсем забыли.
Было тепло – стоял душный пыльный августовский полдень. Лили чувствовала, что лоб ее затянут пленкой пота, а ладони – влажны. Она шагнула к тяжелой на вид двери, на которой висел дверной молоточек в форме медного распятия. Солнце через старый соломенный капор жгло ей затылок. Она окинула взглядом фасады лавок на Мавритания-роуд и заметила, что две старые женщины, стоявшие на пороге у сапожника, пристально за ней наблюдают. В этой части города жила беднота, и женщины в заношенных платьях жались друг к другу и показывали на нее пальцами, будто опознали в ней грешницу, которая явилась сюда в поисках того, что сможет даровать ей искупление.
Лили приподняла распятие двумя пальцами – те были в мозолях от крючков и ранках от игл – и отпустила его. Оно коротко стукнуло, и звук этот сразу же растворился в горячем летнем воздухе. Лили ждала. В Доме спасения стояла тишина. Она отвела взгляд от двери – старухи на крыльце у Гэллапа все еще глазели на нее.
– Туда нужно стучать погромче, – произнесла одна из них.
– Она совсем глухая, – подтвердила вторая.
Глухая? Возможно, она всегда была глуха и не могла услышать волчий вой и плач ребенка, и попросту ушла в ночную тишину?
– Вы не подскажете, как ее зовут? – попросила Лили.
– Там живет миссис Куэйл. Имя ее Френсис. Она говорила нам, что ее назвали в честь святого Франциска Ассизского – она за дур нас, что ли, принимает? Тот святой Франциск был мужчиной. Птичек любил.
– О да, – сказала Лили. – Птиц он любил. Спасибо вам.
Медное распятие раскалилось на солнце – касаться его было очень горячо. Но Лили снова взялась за него и трижды постучала. Спустя миг она услышала скребущий звук, словно по полу волокли соломенную метлу. Затем щелкнул замок, и дверь открылась, и на пороге, мигая от солнечного света, возникла она: довольно низкорослая, но тучная женщина с высоко вздернутой головой – чтобы собственная грузная плоть не мешала ей видеть мир – и в кружевном чепце, прикрывавшем жухлые седые кудри.
Лили представляла ее себе – будь то действительно ее мать – женщиной лет сорока, но этой с виду было около пятидесяти пяти. Она была одета в черное закрытое платье. Учуяв теплый воздух летнего полудня, она сморщила нос.
– Френсис Куэйл? – спросила Лили.
– Для покупателей я миссис Куэйл, если не возражаете. Но заходите, раз уж вы здесь.
В