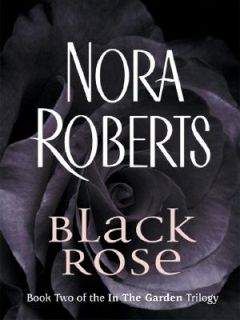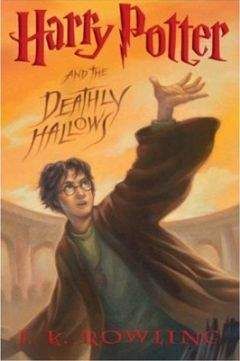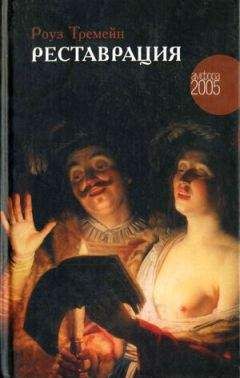Доме спасения было темно. Единственное окно выходило на Мавритания-роуд, но тяжелые бархатные шторы на нем были задернуты. Освещали комнату лишь две масляные лампы, одна в подсвечнике на стене, другая на прилавке, где вперемешку с местными товарами лежали гроссбухи и счета. Товары – двадцать-тридцать одинаковых Дев Марий из гипса, в синих одеяниях, но с белой пустотой на месте лиц. Френсис Куэйл пристроилась за стойкой прилавка, водрузив себя на высокий табурет. Она взяла одну из Марий и сказала:
– Эти продаются лучше всего. Они легкие – их удобно носить с собой. Вы за такой пришли?
– Нет. Я не знаю… – сказала Лили.
– Простите, что вы сказали, дорогая? Говорите громче. Я слышу одно слово из десяти.
– Ах. Сочувствую вашему недугу. Я пришла, чтобы… просто… просто посмотреть, что тут есть…
– Чтобы искупить грехи? Среди молодых встречаются грешники. Это мы знаем. Осмотритесь, дорогая, и выберите то, что вам подходит. У меня есть амфоры со святой водой из благословенной реки Иордан. У меня есть щепки и кусочки коры пробковых деревьев из Гефсиманского сада. У меня есть римские гвозди – такие же, как те, которыми пронзили руки нашего Спасителя на кресте. У меня есть камни, привезенные из самой гробницы Искупителя. А если ваш грех велик, то, приплатив, вы сможете купить прядь седых волос с благословенной головы святого Петра…
Лили слушала, но стояла не шелохнувшись. Она разглядывала Френсис в тусклом мерцающем свете. Перед ней было недоброе лицо и глаза, которые не горели, лишь бездушно на нее смотрели. Она, конечно же, искала в этих чертах отражение собственных, но поняла, что в комнате слишком темно, чтобы точно увериться хоть в чем-то.
– Что вам показать? – спросила миссис Куэйл.
Покажи мне правду: не ты ли та, что выносила меня в своем чреве, а после отправила на смерть.
Но Лили не ответила, только перевела взгляд на товары, что висели на прибитых к стене крючках: четки, маленькие резные распятия из дерева, кресты из двух лучин, крошечные фиалы на лентах, а на узеньком столе под всем этим рядком стояли гипсовые святые кустарной выделки.
– Волосы, – сказала Лили.
– Что?
– Я бы хотела увидеть волосы.
– Не расслышала вас. Позвольте, я найду свой слуховой рожок.
Френсис Куэйл нагнулась и принялась шарить под прилавком. Марии вздрагивали от ее порывистых движений. Лили взяла одну из них и посмотрела в ее белое лицо. Френсис Куэйл появилась из-под прилавка – с медным рожком в руке – и приложила его узким концом к уху.
– Так-то лучше, – произнесла она. – С возрастом разваливаешься по кусочкам, сначала один, потом другой. Но скажите же, что вам показать.
Сильно пахло ладаном. Плотные шторы защищали это место от августовской жары, но Лили вся вспотела. Ей хотелось вернуться на Ле-Бон-стрит, в свою прохладную кровать, но она приказала себе стоять на месте.
– Волосы святого Петра, – ответила она. – Покажите мне их.
Не отнимая рожка от уха, Френсис Куэйл двинулась в самый темный угол комнаты, где стояла этажерка, полная молитвенников в кожаных переплетах с вставками из слоновой кости. Френсис достала один из них и приложила его к своим тонким губам.
– Клянусь, – прошептала она, – на сей дражайшей книге: то, что я вам покажу, – не подделка.
Свет лампы падал на ряд ящичков, стоявших на столе. Они были из дерева, со стеклянными крышками. И в каждом из них под стеклом лежало по тонкому седому завитку.
– Вот, смотрите, – сказала миссис Куэйл. – С головы благословенного святого Петра. Сохранились спустя все эти века, и знаете почему? Благодаря крови. Святого Петра распяли вверх ногами, поэтому вся его кровь прилила к голове, и напитала волосы, и сделала их сильными навечно.
Лили склонилась над ящичками.
– Как вы их заполучили? – спросила она.
– Вас занимает то же, что и всех. Меня винят в подлоге. Не верят, что кому-то вроде меня достанет отваги или сил, чтобы отправиться в Святую землю на поиски ценнейших реликвий, какие только можно себе позволить. Но Богородица была со мной на всем пути и защитила меня от лгунов и шарлатанов. Вот и все, что вам следует знать.
Лили взяла один из ящичков – на каждом была обозначена цена: пять гиней [7]. Она решила поднести его к свету, чтобы получше рассмотреть прядь. В «Лавке париков» они работали с волосами азиатов и нищих лондонцев, но также с шерстью яка и с мохером. Все это она различала с одного лишь взгляда – этому ее научила Белль. То, что было перед ней, походило на английские волосы, но она не была в этом уверена. Лишь понимала, что здесь явно сплутовали, и удивлялась, как эта персона, которая была – или не была – ее матерью, додумалась до этого подлога и что о ней такой поступок говорит.
Она вернула ящичек на стол и сказала Френсис Куэйл, что купит ту дешевую Марию.
Вернувшись к себе на Ле-Бон-стрит, она с Марией в руках подошла к подвальному окну, откуда внутрь проникало немного света, и принялась рассматривать фигурку. Из-за того, что одеяние Марии было выписано очень тщательно, казалось странным, что лицо ее оставили пустым, но, присмотревшись, Лили начала понимать, что за хитрость провернула миссис Куэйл. Ведь кем являлась Богородица, как не заступницей для всех католиков, и потому представляемой каждой трепещущей душой по-своему? И когда такая статуэтка оказывалась у этих душ в руках, она становилась той самой версией Марии, которую они хотели видеть. И они самостоятельно придавали ей желаемые краски и черты. Рисовали остроконечной кистью темные брови – густые или тонкие, затем губы – уверенно-пунцовые, а иногда и нежно-розовые. А цвет ее лица? Его могли оставить белым, словно мрамор усыпальниц, или придать ему здоровый румянец, а может, и загар, ниспосланный Марии солнцем Иудеи. И вот она являлась перед ними, с лицом, которое они сами даровали ей, с лицом Марии, что жила у них в сердцах.
Эти мысли – или, скорее, догадки – привели Лили к убеждению, что Френсис Куэйл, хоть и наполовину оглохшая, вполне могла быть человеком, который старался просчитывать все наперед и думать о последствиях. Разве не так она повела себя, когда бросила собственное дитя? Она, должно быть, понимала, что не сумеет ежедневно сносить присутствие рядом комочка плоти, который требует так много внимания и заботы и который служит постоянным, неумолчным напоминаем об ее грехе. И потому она запретила себе думать о муках, которые ждут едва рожденное дитя, оставленное на морозе на погибель. Ей просто