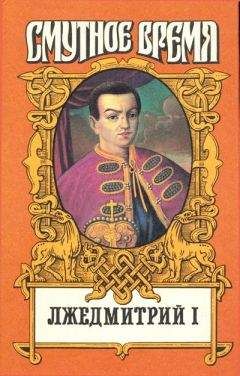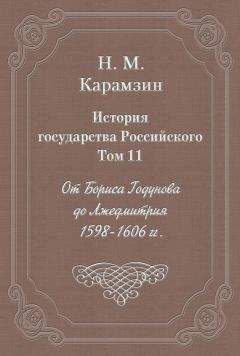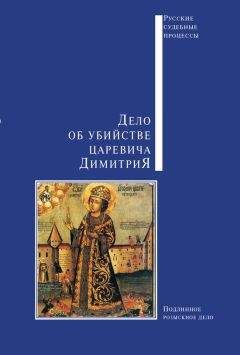— Любезный пан, мне нужно с тобой поговорить.
— Я слушаю, отец Пий, — ответил молодой человек.
— Пойдем сядем в уголок, чтобы нам никто не помешал, и побеседуем.
— Сын мой! — ласково начал патер, когда они отошли в угол комнаты и сели там. — Я слышал, что ты хочешь вступить в брак с панной Анджеликой?
— Да, мой отец.
— Хвалю твое намеренье: добрая жена спасает от многого. А она будет тебе доброю женой.
— Уверен в этом.
— День свадьбы уже назначен?
— Нет еще.
— Еще нет? Что же так? Надо бы! Ну, а когда думаешь ты присоединиться к нашей святой церкви?
— Я этого совсем делать не думаю! — резко ответил молодой человек.
— Гм… Вот как! Почему же?
— Потому что наша церковь не менее свята, чем латинская. Незачем менять веру.
— Сын мой! Не подобает мужу и жене веровать розно.
— Этой розни у нас не будет: мы оба будем веровать в Иисуса Христа.
— Печально уж и то, что вам придется молиться в разных храмах. А будут дети — как вы станете наставлять их в Законе Божьем? Каждый по-своему!
— Мы будем учить их верить в Бога.
— Этого мало, сын мой. У нас есть таинства, обряды, догматы — наши разнятся от ваших. Кроме того, не забудь, что ваша церковь еретическая. Вон боярин Белый-Туренин это осознал и хочет вступить на истинный путь. Хвала ему!
— Я думаю, верней, у вас ересь, а у нас истинная вера. Что о том спорить?! А боярин мне — не указ; мало ль отступников есть на белом свете? Есть такие, что и в басурманство перейдут, не то что в вашу веру.
— Гм… Так ты твердо решил не переходить?
— Твердо!
— А если панна Анджелика потребует?
— Она не потребует: она знает, что спастись можно в каждой вере, нужно только веровать всем сердцем.
— Так.
Патер поднялся.
— Ты это верно сказал, сын мой, что спастись можно во всякой вере. Ты веруешь — ты спасешься… Ты спасешься!
И он отошел от Максима Сергеевича, ласково кивнув ему головой. На бледных губах его играла улыбка.
Молодой человек заметил эту улыбку и призадумался, смотря вслед медленно удалявшейся темной тощей фигуре патера. Улыбка эта и ласковость отца Пия его тревожили; он лучше желал бы видеть его рассерженным.
— Э! Что тревожиться! — решил он наконец, — Захочет этот поп помешать мне жениться на Анджелике — силой возьму ее! Увезу тайком да и обвенчаюсь. Не стоит тревожиться!
И он уже с самым беспечным видом поспешил в сад, где, знал он, поджидает его невеста.
XXI
Ради спасения от когтей дьявола
— Ах, как же так, Юзефочка, ах, как же так! Обещались, к свадьбе готовились, и вдруг…
— Виновато его упорство, закоснелость в ереси.
— Все-таки…
— Послушай, ведь нельзя же ради него губить душу нашей дочери.
— Конечно, конечно, но…
— Ну так и нужно принять решительные меры.
Она замолчала. Пан Самуил прошелся несколько раз по комнате.
Он был смущен, подавлен; он никогда не думал, что дело примет такой оборот; в душе он твердо надеялся, что пан Максим пожертвует православием ради невесты, как это сделал Белый-Туренин, и вдруг сегодня пани Юзефа объявляет ему, что Максим решился остаться в схизме, что поэтому брака его с Анджеликой нельзя допустить и нужно возможно скорее на неопределенное время удалить дочь из дому.
Добрый пан совсем потерялся от такого сообщения. Будь его воля, он охотно бы согласился на брак своей дочери с «еретиком»; одно мгновение у него даже мелькнула мысль крикнуть: «А ну вас! Пусть поженятся молодые, если любят друг друга!» Но эта мысль только мелькнула и тотчас же пропала: слабовольный пан струсил — пани Юзефа так сурово смотрела на него. Приходилось поневоле соглашаться.
— Юзефочка… — робко заговорил он опять.
— Ну что?
— А скажи… того… Куда же мы удалим Анджелиночку?
— Я и сама не знаю хорошо. За это дело берется наш святой отец Пий. Он устроит ее в благонадежном месте. Я думающему можно доверить?
— Гм… гм… Конечно, Юзефочка, Конечно!..
Когда пан Самуил вышел из комнаты жены и встретился с Анджеликой, он отвернулся, чтобы скрыть влагу на своих глазах.
Девушка не заметила расстроенного вида отца и ничего не подозревала о заговоре против нее и Максима Сергеевича.
За последнее время она даже стала спокойнее; смутное беспокойство за будущее совершенно покинуло ее: мать не вспоминала более об «ереси» пана Максима, отец Пий стал с нею чрезвычайно любезен и ласков и тоже ни слова не говорил о религии ее жениха — чего же было тревожиться? Все, по-видимому, шло по-старому, пан Максим по-прежнему приезжал к ним ежедневно, встречали его приветливо; при таком положении можно ли было думать о чем-нибудь другом, как ни о предстоящем, уже недалеком, казалось, счастье? И спокойная духом девушка отдавалась радостным мечтам.
Однажды поутру, едва забрезжил рассвет, Анджелику разбудила мать.
— Одевайся! — приказала она.
— Зачем? Так рано!
— Нужно, — лаконически ответила пани Юзефа.
Анджелика взглянула на нее — лицо матери было холодно и сурово.
Еще не совсем пришедшая в себя от сладкого предутреннего сна, девушка торопливо оделась.
Вошли пан Самуил, отец Пий, какие-то темные фигуры.
Анджеликой начинал овладевать страх.
«Зачем они собрались сюда? Чего они хотят?» — думала она в беспокойстве.
— Ты не того, не очень тоскуй, Анджелиночка: тебя не навсегда… Так, на время… — забормотал отец.
Он не мог говорить, его душили слезы.
— Что? Что на время? — воскликнула девушка в страшной тревоге.
— На время… того… увезут… — начал было опять пан Самуил.
Его прервал сладкий тенорок отца Пия:
— Тебя на некоторое время удалят из родительского дома, дочь моя…
Анджелика испуганно вскрикнула, а патер спокойно продолжал:
— Для твоего блага. Дело идет о спасении и защите твоей души от сетей лукавого, и твои родители, как истинно благочестивые католики, решились принести эту жертву, желая лучше перенести тягостную разлуку с дочерью, чем видеть ее в когтях диавола. Они твердо решились свершить христианский подвиг, и ты напрасно плачешь — слезы не помогут. Покорись необходимости, простись с твоими родителями и поблагодари их за заботу о тебе.
— Да, слезы не помогут! Мы твердо решились, — проговорила пани Юзефа.
Пан Самуил громко всхлипнул.
— Но что же это? Господи! Я не хочу, не хочу! Не поеду! — говорила, заливаясь слезами, панна Анджелика.
— Дочь моя! Не заставь употребить насилие! — сказал патер.
— Покорись. Это для твоего же блага, — заметила пани Юзефа, лицо которой слегка побледнело, но не потеряло своего сурового выражения.
— Ах, какое там благо! — простонала несчастная девушка. — Отец! Хоть ты, хоть ты защити меня! — кинулась она на грудь отца.
Пан Самуил сжимал ее в объятиях, плакал, но молчал.
Отец Пий подал знак.
Темные фигуры — две монахини — хранившие все время неподвижность статуй, приблизились к Анджелике и взяли ее под руки. Девушка вырывалась от них, но они держали ее крепко и потащили к выходу.
— Прощай, Анджелиночка! Прощай, дочка моя! — плача, воскликнул пан Самуил.
— Исправляйся, — сказала мать, холодно поцеловав ее в лоб.
— Постарайся поскорей позабыть своего жениха! — промолвил вслед ей отец Пий.
Девушка быстро обернулась к нему.
— Не забуду! Не забуду! Знаю, чего ты хочешь! Злые!.. Нехорошие! — крикнула она вне себя и вдруг бессильно опустилась на руки монахинь, лишившись чувств.
Ее подхватили и понесли быстрее.
У крыльца уже ждал рыдван[3], запряженный тройкою коней, рывших копытами землю.
Через мгновение тройка рванулась. Звякнули бубенцы.
— Прощай, дочка моя, прощай! — прозвучал последний, скорбный вопль пана Самуила.
Когда к панне Анджелике вернулось сознание, край солнца уже показался над горизонтом. Сперва девушка не могла понять, где она и что с нею, но скоро молчаливые фигуры сидевших рядом с нею монахинь напомнили ей все.
— Куда меня везут? — спросила она у одной из монахинь.
Та, худощавая, морщинистая, даже и не пошевельнулась, а другая, более молодая, проговорила:
— Дочь моя! Не задавай праздных вопросов.
Панна поняла, что расспрашивать бесполезно. Холодное отчаяние наполнило ее душу. Она чувствовала себя как бы заживо похороненной.
А тройка мчалась все быстрее, все дальше уносила Анджелику от родного дома, от ее счастья.
Лизбета и Павел Степанович были немало изумлены, узнав об исчезновении Анджелики.
Лизбета всплакнула по ней, но потом довольно скоро утешилась: у этой девушки всякое чувство быстро загоралось, быстро и потухало.