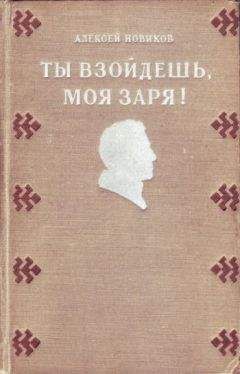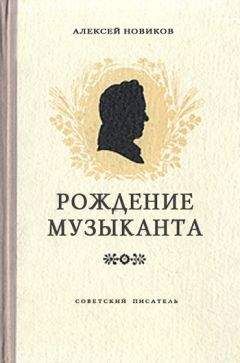…Вот уже понял печальный принц, что на троне воцарился убийца, и слал ему гневные слова: «Блудливый шарлатан, кровавый, лживый, злой, сластолюбивый…» Слова, обращенные к королю Дании, неожиданно получали новый смысл и метко целили в адрес самодержца всероссийского – Николая Павловича.
А далее развертывалась перед сочинителем новая аллегория:
Гамлет называет Данию тюрьмой со множеством арестантских каталажек и подземелий.
– Дания ли? – задумывается, перечитывая текст, Глинка.
Слишком зримыми признаками русской действительности кажутся ему узилища и каталажки. Даже подземелья стали реальностью для тех, кто сослан в сибирские рудники.
Трагедия Шекспира как нельзя более подходила для иносказания.
Даже в должности, когда помощник секретаря готовил спешные бумаги для членов Главного совета, вдруг явственно слышался ему знакомый голос несчастного принца:
Может быть, сам дьявол
Расчел, как я устал и удручен,
И пользуется этим мне на гибель…
Глинка вслушался и насторожился. Если явится сейчас на русском театре этот изнемогающий в борении ума и воли человек, не станут ли ссылаться на него все те, кто ищет покоя, ничего не свершив? Не станет ли ссылаться на него каждый, кто говорит об усталости, не участвовав, однако, ни в каких битвах?
Сомнения начались у Глинки в той самой секретарской комнате, где в былые дни он беседовал со штабс-капитаном Бестужевым. Музыкант решительно поспорил с безвольным принцем. Нет, не говорили об усталости те, кто шел на подвиг.
И надолго задумался автор будущей оперы, повторяя знаменитый монолог «Быть или не быть?»
Улицы Коломны млели от июньской жары. Над Козьим Болотом вздымались столбы иссохшей пыли. В Крюковой канаве, что отделяет Торговую улицу от театра, заметно убыло воды. Даже будочника на мосту морила сладостная истома. Если бы не зевал он протяжно да не сплевывал в ленивые воды, можно было бы и его счесть за чеканную аллегорию, воздвигнутую подле храма Мельпомены.
А Глинка перешел к кипучей деятельности. Досталось и Якову, и второму дворовому человеку – Алексею.
Алексей давно пользовался полной свободой и, навострившись играть на скрипке, постоянно бывал в отлучке. Но теперь скрипач был посажен за переписку нот и сидел не разгибаясь. Проверив работу, Глинка щедро награждал переписчика и опять его загружал.
Каждый раз, когда надобно было выдать ноты, сочинитель долго разбирался на полках.
…Однажды, собираясь на службу, Глинка долго расхаживал по большой зале, предназначенной батюшкой для деловых приемов. Потом послал Якова с записками по разным адресам.
– Допрежь всего пойдешь в казармы лейб-гвардии конного полка, к ротмистру Девьеру.
– Знаем, – нахмурился Яков.
– Только смотри, старый, не болтай да держи ухо востро!
– А то сами не понимаем! – угрюмо отвечал Яков. – За такие дела начальство тоже по головке не погладит. Не посмотрят и на титулярного советника.
Яков явно не одобрял нового знакомства Глинки, тем более – тайной переписки.
Прибравшись в комнатах, он пошел к Алексею и молча рассматривал его работу. Ноты разбегались по линейкам, и не было конца их стремительному бегу. Яков наблюдал долго с неодобрением, потом брал виолончель, подаренную ему за прилежание Глинкой.
– Повторить, что ли, вчерашнее, – оправдывался он перед Алексеем, – а то опять доймет жалобными словами.
К скрипу гусиного пера присоединялось скрипение виолончельных струн. Наконец отправился Яков по тайному поручению и едва спасся от беды, потому что Глинка возвратился раньше обычного.
– Каков ответ принес, мой доблестный Полоний? – нетерпеливо спросил он Якова.
Яков подал записку.
– А еще кланяться приказывали…
– Отлично! – воскликнул Глинка, пробежав записку ротмистра Девьера. – Алексея сегодня никуда не отпускать. Поди прибавь стульев в залу.
– Да куда их столько, Михаил Иванович? И так наставлено, будто в театре.
– Делай, что тебе говорят. – Глинка помахал полученной запиской. – Народу вон сколько будет!
– А ништо им и достоять, не ахти какие господа! – ворчал Яков, направляясь в залу.
Вскоре туда же пришел Глинка и, проверив все, велел наглухо закрыть окна.
– В эдакий-то жар? – удивился Яков.
В тот же день, еще с утра, адъютант лейб-гвардии конного полка ротмистр Девьер вызвал фельдфебеля музыкантской команды, приказал отобрать музыкантов и отрядить их на Торговую улицу, в дом купца Пискарева, а там явиться к титулярному советнику Глинке и поступить в полное его распоряжение.
Приказание ротмистра было не очень законно, особенно при строгостях, которые начались в полках. Но граф Девьер был страстным любителем музыки и порядочным скрипачом, а потому действовал в убеждении, что музыка имеет свои права, хотя бы и не предусмотренные воинским уставом. К тому же, случайно познакомившись с Глинкой у графа Сиверса, ротмистр признал за титулярным советником явные музыкальные способности. И потому оркестранты лейб-гвардии конного полка прибыли на Торговую улицу в назначенное время.
Едва занялся Яков предварительным угощением солдат, как сюда же подошли вольнонаемные скрипачи, а следом за ними табуном ввалились придворные певчие. Яков едва успевал потчевать прибывающих гостей. Алексей раскладывал по пультам ноты. В зале становилось тесновато от людей и инструментов. Не знал, должно быть, Иван Николаевич, на что приспособит непутевый сын эту великолепную залу.
– Все готово, Михаил Иванович, – доложил Глинке Яков.
Глинка направился в залу. Он приветливо обошелся со всеми, поясняя каждому его дело. Вначале проходил партии со скрипачами, с флейтистами, наконец взялся за певчих. Как всегда, он действовал не только словом, но и примером и возбудил всеобщее усердие.
Музыканты, сначала поглядывавшие на чудака-барина со снисхождением, стали один за другим подтягиваться.
Поработав начерно, Глинка еще раз рассадил музыкантов, расставил певчих и встал перед ними, подняв руку.
– Теперь не зевай! – сказал он и дал оркестрантам знак к вступлению…
Уж не прозвучит ли сейчас увертюра к «Гамлету»? Или, может быть, сам принц сызнова потрясет мир скорбной речью?
Но музыканты, слаженно проиграв первые такты, сбились. Трудно было бы судить о характере музыки даже искушенному человеку.
А маэстро сам берется за скрипку, потом долго наставляет Якова, который сбил наемную виолончель. Пока же трудится, добиваясь ансамбля, маэстро, можно пояснить: в пьесах, отобранных для оркестровой и вокальной пробы, нет ни одного такта из «Гамлета». Признаться, из будущей оперы вообще нечего еще исполнять.
Но настало время раскрыться другой тайне: все пьесы предназначаются именно для театра. Пусть это только отдельные наброски, навеянные разными мыслями и написанные в разное время, – но все они созданы для будущих опер.
Давно выбились из сил и певчие и оркестранты, только Глинка был неутомим. Пройдя пьесу с оркестром, он обучал теперь певчего, которого определил для исполнения арии. Сочинитель сам пел ее несколько раз, потом долго слушал певчего.
– Опрятно, – наконец сказал он. – Теперь пойдет! – И дал знак музыкантам.
Репетировали и арии и хоры, но нельзя сказать, какой именно театр имел в виду сочинитель. Во всяком случае в Большом петербургском театре, высившемся неподалеку от места пробы, такой музыки никогда не исполняли. Да что петербургский театр! Нигде и никогда еще не звучали подобные арии и хоры.
Стройное слияние певцов с оркестром, при всем многообразии этого единства, свидетельствовало о том, что давно проник сочинитель в тайны контрапункта. Порой ему удавалось добиться такой прозрачности музыки, что сплетение звуков походило на сплетение солнечных лучей. Так бывало у великого Моцарта. Но тут же проявлялась в музыке мощь, которая могла бы быть под стать самому Бетховену. Но и сила и волнение мысли были опять не те, что у Бетховена. Должно быть, действительно становилась музыка россиянкой, и потому ей не приходилось занимать ни у Моцарта, ни у Бетховена, разве что у своих российских песен. Но то не были и песни. Словно бы прошел сочинитель вместе с ними вековечный путь, вник в непрерывное их течение и заглянул вперед…
Репетиция продолжалась долго. Кончив ее, Глинка низко поклонился артистам, даром что были перед ним солдаты да вольнонаемные мещане.
– Благодарю за труд и усердие, – сказал дирижер. – Теперь угощайтесь вволю. – Еще раз поклонился и, взволнованный и счастливый, пошел из залы.
Он сел в кабинете к столу, перебирая в уме игранное, потом унесся мыслью в будущее. Но именно в этот час восторга в дверях явился неумолимый Яков.
– Ау, Михаил Иванович! – мрачно возвестил верный домоправитель. – Осталось всех денег в доме десять рублей, и купцу за квартиру тоже не плочено.
А Михаил Иванович был все еще не в себе.