Вот и сейчас Сталин в уме прикидывал: что сделано хорошо, а что плохо и что предстоит сделать для нового рывка вперед.
Самое удивительное состояло в том, что Сталина прежде всего занимали сейчас не проблемы экономики и не цифры из статистического отчета, которые он считал во многом дутыми, пригодными лишь для официальной пропаганды, но отнюдь не для серьезного анализа, а те итоги, которые относились к его борьбе с политическими противниками. Он прекрасно понимал, что, не убрав со своего пути всех этих троцких, каменевых, зиновьевых, бухариных и иже с ними, он не достигнет вершин власти, они вечно будут путаться под ногами, бросать на него тень, раскалывать партию, которая должна стать и во что бы то ни стало станет его личной партией, не признающей других лидеров, других вождей, кроме него, Сталина.
К числу своих политических успехов Сталин отнес сейчас разгром Троцкого, этого фразера, прожженного политикана, несостоявшегося диктатора. Мало того что его удалось еще два года назад исключить из партии, теперь, в начале 1929 года, он был выдворен за пределы СССР. Конечно, он, Сталин, поступил с Троцким излишне либерально. Надо было устроить показательный процесс и расправиться с ним как с врагом не только партии, но и всего народа.
«При таком подходе,— размышлял Сталин,— эта политическая проститутка не вела бы себя так разнузданно и воинственно. Не надо было слушать этих олухов из Политбюро. А то отправили как особо важную персону вместе с женой и сыном через Одессу в Константинополь, да еще и на пароходе с символическим названием «Ильич». А этот новоявленный Робеспьер визжит теперь на всю планету: «Республика погибла! Настало царство разбойников!» Утешает лишь то, что он напоминает больше актера, чем героя. Не случайно Каменев и Зиновьев открестились от Троцкого. Понятно, эти господа хотят купить себе прощение. Что же, на каком-то этапе эти отщепенцы могут пригодиться, пока что их нужно приберечь, как разменную монету, пусть себе всласть облаивают своего бывшего дружка! А тем временем мы подготовимся к тому, чтобы и этих претендентов на власть превратить в политические трупы».
Больше всего Сталина бесило то, что Троцкий даже в роли изгнанника претендует на свою политическую значимость, пыжится изо всех сил, чтобы его имя не было предано забвению. Чего стоит хотя бы его телеграмма президенту Турции Кемаль-паше: «У ворот Константинополя я имею честь известить вас, что на турецкую границу я прибыл отнюдь не по своему выбору и что перейти эту границу я могу, лишь подчиняясь насилию». Ну и позер! Нет, он, Сталин, не успокоится, пока этот интриган не перестанет ходить по земле, сочинять небылицы о Сталине, пока он не перестанет изрыгать политические пасквили, проклиная и обвиняя его во всех смертных грехах. Сталин был уверен в том, что, пока жив Троцкий, ему не будет покоя: слишком много знал этот возомнивший себя героем революции человек, слишком хорошо мог использовать свой бесовский талант в политических инсинуациях. Дошел же он до того, что объявил его, Сталина, «круглым нулем в политике», «исторической ненормальностью» и даже «роковой аномалией». Обнаглел настолько, что на партийном съезде (и даже не в кулуарах, а прямо с трибуны) бросил слова, которые он, Сталин, ему никогда не простит: «Сталин не может выполнять роль объединителя большевистской партии».
Какой объединитель выискался! Вот и объединяй себе кого хочешь в своем дальнем зарубежье, если мы тебе это еще позволим.
На столе Сталина лежал сборник статей Троцкого с интригующим названием «Что и как произошло?». Этот презренный Иудушка заявляет на потребу мировой буржуазии, что «теория о возможности построения социализма в одной стране есть реакционный вымысел, главный и наиболее преступный подкоп под революционный интернационализм».
Сталин уже не раз перечитывал эти строки, накаляясь от переполнявшего его возмущения.
— Наконец, мерзавец, перестал притворяться и фарисействовать,— не выдержав, сказал он вслух и сделал рукой размашистый жест, как бы перечеркивая эти слова Троцкого крест-накрест.
Мысли о Троцком и о том, что борьба с ним далеко еще не окончилась, привели его в то неуравновешенное, возбужденное состояние, при котором ему всегда хотелось немедленно взойти на трибуну и обличать своего оппонента хлесткими, как бич пастуха, ударами до тех пор, пока тот не свалится с ног и не запросит пощады…
Сталин не любил долгих прогулок и вскоре вернулся на дачу. Едва он успел снять верхнюю одежду и валенки и, всунув ноги в теплые мягкие тапочки, пройти в свой кабинет, как ему доложили, что человек, который его очень заинтересовал, доставлен.
— Я приму его через пятнадцать минут,— хмуро сказал Сталин.
Он уже успел забыть о своем вчерашнем распоряжении, собирался прилечь на диван, а потому воспринял сообщение начальника охраны без особого энтузиазма.
Минута в минуту в кабинет Сталина с озабоченным, встревоженным лицом вошел Тимофей Евлампиевич Грач. Как ни пытался он по дороге в машине предугадать маршрут своей внезапной поездки, он никак не мог и представить себе, что чекисты привезут его к самому Сталину. И теперь, оказавшись на его даче, он все еще не мог поверить в реальность происходящего. Чудилось, что пройдет еще минута-другая, и он очнется, убедившись, к своей великой радости, что пробудился в своем бревенчатом доме на окраине Старой Рузы.
Но едва он увидел Сталина, сразу же понял совершенно осмысленно, что это не сон.
Сталин притомился за время прогулки, замерз и потому сейчас не расхаживал, как обычно, когда принимал гостей, по кабинету, а сидел в глубоком и просторном кресле в стороне от стола, в самом дальнем от двери углу, и был настолько погружен в какие-то невеселые, даже мрачные думы, что, казалось, не обратил ни малейшего внимания на человека, переступившего порог.
Тимофей Евлампиевич остановился на пороге и с нескрываемым интересом вглядывался в Сталина. В первый момент ему показалось, что Сталин и похож и не похож на того человека, портреты которого все чаще стали появляться не только в присутственных местах, но и на улицах, в витринах магазинов, на зданиях в центральной части города и конечно же в газетах и журналах. Он выглядел значительно старше, чем был изображен на портретах и фотографиях, в черных плотных волосах серебрились сединки, которые фотографы тщательно ретушировали, лицо было изрыто оспинами, взгляд был потухший, в то время как на портретах в глазах его победно сияла жизнь, они как бы отражали молодость его души и бодрость духа. Тимофей Евлампиевич ожидал увидеть высокого, стройного, крепкого сложения человека, каким обычно представляется в воображении простых смертных вождь, а увидел, к своему разочарованию, невысокого, сухощавого, едва ли не тщедушного мужчину с невыразительными темными глазами.
— Садитесь,— едва слышно пригласил Сталин, не глядя на Тимофея Евлампиевича, и коротко взмахнул правой рукой в сторону кресла, стоявшего у противоположной стены. Тимофей Евлампиевич, не расслышав приглашения, продолжал стоять на пороге.
— Садитесь, садитесь,— уже чуть громче и настойчивее повторил Сталин, тоном своим выражая недовольство тем, что его приглашение все еще не воспринято.
Тимофей Евлампиевич поспешно подошел к креслу и опустился в него.
— Мы, кажется, забыли поздороваться? — осведомился Сталин, метнув на Тимофея Евлампиевича острый, испытующий взгляд,— А между прочим, при любых встречах этот атрибут человеческих взаимоотношений, кажется, еще не изжил себя.
Тимофей Евлампиевич поспешно выбрался из кресла.
— Извините, Иосиф Виссарионович, но мне показалось, что здесь никого нет. Солнце и снег сегодня так ослепительны, что глаза долго не могут привыкнуть… Добрый день!
— Неужели товарищ Сталин такая уж неприметная личность, что его можно и не заметить?
Тимофей Евлампиевич смутился, не зная, как выйти из столь неловкого положения. Сталин явно намекал, что к нему следует обращаться по фамилии, а не по имени и отчеству, но он не уловил этого намека.
— Не так давно мне стало известно,— не дождавшись ответа и так и не поздоровавшись, заговорил Сталин бесстрастным тихим голосом,— что живет себе да поживает некий товарищ Грач, возомнивший себя то ли московским Диогеном, то ли Сократом и не придумавший для себя ничего более интересного и полезного, чем заняться сбором досье на товарища Сталина.
«Как они узнали об этом? — со скоростью молнии пронеслось в голове у Тимофея Евлампиевича.— Тем более что в моем письме нет ни слова об этом. Неужели Рябинкин? Или Сохатый? Нет, нет, нельзя подозревать людей, не имея фактов…»
— Сперва я просто не поверил, посчитав это донесение вздорным наветом,— продолжал Сталин, внимательно разглядывая свою трубку, которая давно погасла.— Но после того как мне передали ваше письмо, я предположил, что такое досье вполне реально. Однако мне непонятна ваша позиция. Зачем вам такое досье? Все, что необходимо знать о товарище Сталине, хранится в архивах.
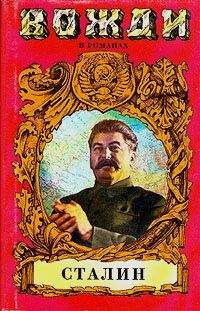

![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)


