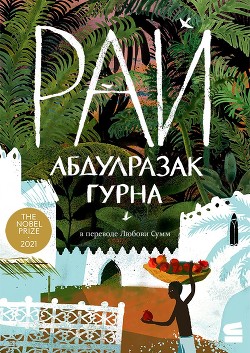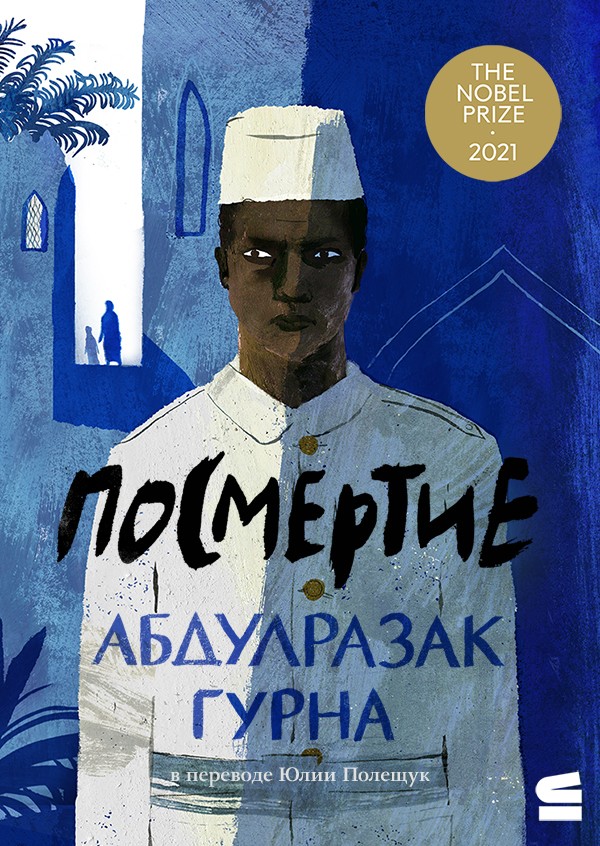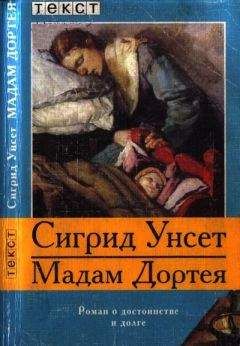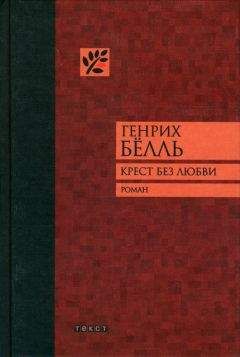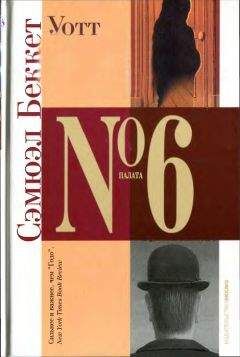— Почему он зеленый? Свет — почему?
— Из-за горы, — ответил Хуссейн. — Когда доберешься в своих странствиях до озер, увидишь, что мир окружен горами и они придают небу зеленоватую окраску. Эти горы на том берегу озера — край известного нам мира. По ту сторону воздух цвета язвы и чумы, и одному Богу ведомо, что за твари там обитают. Восток и север известны нам вплоть до Китая на краю востока и до владений Яджуджа и Маджуджа на севере. Но на западе страна тьмы, страна джиннов и чудищ. Бог посылал твоего тезку Юсуфа пророчествовать в стране джиннов и дикарей. Может быть, он и тебя пошлет к ним.
— Ты бывал у озер? — спросил Юсуф.
— Нет, — ответил Хуссейн.
— Но во всех остальных местах он бывал, — вмешался Хамид. — Он-то дома не засиживается, не такой это человек.
— Что за пророк Юсуф? — спросил Каласинга. Пока Хуссейн рассуждал про озера и зеленый свет, он презрительно усмехался — все это сказки, восклицал он, — но собеседники знали, что он не устоит при упоминании пророка и джиннов.
— Пророк Юсуф, который спас Египет от голода, — ответил Хуссейн. — Разве ты не слышал о нем?
— Что там, за тьмой на западе? — спросил Юсуф, и Каласинга сердито прищелкнул языком. Он-то ждал рассказа о голоде в Египте — знать он про него знал, но охотно бы послушал снова.
— Никто не знает, как далеко простираются дикие места, — ответил Хуссейн. — Но я слышал, говорят, путь пешком занял бы пять сотен лет. Источник жизни там, в этой пустыне, его охраняют упыри и змеи — каждая с целый остров величиной.
— Ад тоже там? — спросил Каласинга, вернувшись к своему обычному насмешливому тону. — Все эти камеры пыток, которыми запугивает ваш Бог, они тоже там?
— Тебе виднее, — сказал Хамид, — ведь ты направляешься прямиком туда.
— Я собираюсь перевести Коран, — внезапно заявил Каласинга, а когда все остальные отсмеялись, уточнил: — На суахили.
— Ты и говорить-то не умеешь на суахили, — сказал Хамид. — И по-арабски не читаешь.
— Я переведу его с английского перевода, — угрюмо упорствовал Каласинга.
— Зачем это делать? — спросил Хуссейн. — Такой бестолковой идеи мне еще не доводилось от тебя слышать. Зачем тебе это?
— Чтобы вы, глупые туземцы, услышали болтовню Бога, которого почитаете, — пояснил Каласинга. — Это будет моя миссия. Разве вы понимаете, что там написано по-арабски? Самую малость, а по большей части вы, глупые туземные братцы, и того не понимаете. Потому-то вы и глупые туземцы. Что ж, когда начнете понимать, может быть, увидите, насколько нетерпим ваш Аллах, и перестанете его чтить, поищете для себя что-то получше.
— Валлахи! — воскликнул Хамид, уже не шутя. — Не думаю, что такому, как ты, пристойно говорить о Нем в столь недопустимом духе. Наверное, кто-то должен проучить этого волосатого пса. Вот что: в следующий раз, когда ты придешь подслушивать наши разговоры у лавки, я перескажу глупым туземцам твои слова. Они живо подпалят твою волосатую задницу.
— Все равно я переведу Коран, — неколебимо заявил Каласинга, — ибо я пекусь о других людях, даже о невежественных алла-валлахах. Разве это религия для взрослых людей? Может, я не знаю, каков Бог, и не помню всю тысячу его имен и миллионы его посулов, но я знаю — Он не может быть тем злыднем, которого вы почитаете.
В этот момент в магазин вошла женщина, спросила муку и соль. Вокруг ее талии был обмотан кусок ткани, и на шее висели широкие бусы, спускаясь также на плечи. Грудь оставалась открытой, соски наружу. Она не обратила ни малейшего внимания на Каласингу, который при виде нее заерзал, стал испускать похотливые звуки, причмокивая, словно голодный, и вздыхая. Хуссейн заговорил с женщиной на ее языке, и она благодарно улыбнулась, стала подробно отвечать, жестикулируя, что-то поясняя, сквозь ее слова прорывался смех.
Хуссейн засмеялся вместе с ней, отфыркиваясь, присвистывая носом. Женщина ушла, а Каласинга не прерывал песнь своей похоти, описывал, как будет скакать и скакать, пока не изольется в нее целиком.
— О эти дикарки, вы почувствовали запах коровьего навоза? Вы видели эти груди? Такие пухлые, ах, у меня все болит!
— Она кормит дитя. Об этом она и рассказывала мне — о своем малыше, — сказал Хуссейн. — Ты смеешься над нетерпимостью нашего Бога и глупостью нашей веры, а потом называешь эту женщину дикаркой.
Каласинга вроде бы и не слышал этого упрека. Откликаясь на подначки Хамида, он пустился рассказывать про свои любовные подвиги, громоздя комические подробности. Вот, мол, красивая женщина после всяческих его тщательно продуманных ухищрений привела его к себе домой — и оказалась мужчиной. А потом он вел переговоры со старухой, принимая ее за сводницу, но она и оказалась проституткой, за близость с которой ему следовало уплатить. А еще у него было дело с замужней женщиной и он чуть не лишился жизненно важных органов, когда в самый неподходящий момент рогатый муж загремел дверным замком. Он разыгрывал все роли, смягчал голос, расслаблял тело, руки и ноги его свободно ходили в суставах. В тех промежутках, когда он становился собой, его борода грозно щетинилась и тюрбан словно приподнимался над головой — вот он, грозный джанаб[44], сосредоточенный исключительно на поисках женщины. Хамид выл от смеха, хватался за бока, задыхался в приступе веселья. Каласинга терзал его, повторяя те сцены, которые действовали наотмашь. Юсуф тоже смеялся — виновато, потому что видел, что Хуссейн вовсе не одобряет грязной болтовни, но при виде Хамида, корчащегося в судорогах хохота, не мог устоять.
Наконец в ранние предрассветные часы болтовня их стала тише, мрачнее, и слова прерывались все более частыми и долгими зевками.
— Боюсь я времен, что нам предстоят, — негромко сказал Хуссейн, а Хамид в ответ устало вздохнул. — Все пришло в смятение. Эти европейцы очень настойчивы, они сокрушат нас всех, воюя за блага земли. Глупо думать, будто они явились сюда с добром. Их не торговля интересует, а сама земля. И все, что тут есть… мы.
— В Индии они правят веками, — откликнулся Каласинга. — Но вы не цивилизованы, как они могут проделать здесь то же, что в Индии? Даже в Южной Африке — убивать всех людей там, чтобы завладеть землей, имеет смысл только ради золота и алмазов — а здесь что? Они будут спорить и ссориться, хватать то и воровать се, может, устроят несколько небольших войнушек, а потом им надоест и они отправятся по домам.
— Пустые мечты, мой друг, — откликнулся Хуссейн. — Смотри, они уже разделили между собой лучшую землю на горе. Из гористой местности к северу отсюда они изгнали даже самые свирепые племена и захватили их землю. Прогнали их с легкостью, будто малых детей, кое-кого из вождей похоронили заживо. Ты об этом не слышал? Остаться разрешили только тем, кого превратили в своих слуг. Несколько столкновений — с их-то оружием, — и вопрос решен. По-твоему, это выглядит так, словно они заглянули сюда ненадолго? Говорю тебе, они очень настойчивы. Им нужен весь мир.
— Тогда нужно узнать, кто они такие. Что вам известно о них, кроме этих побасенок о змеях и людях, которые едят железо? Вы знаете их язык, их истории? Как же иначе вы научитесь справляться с ними? — спросил Каласинга. — Ворчать-бурчать — что толку в этом? Мы все одинаковые. Они наши враги. Это тоже делает нас одинаковыми. В их глазах мы животные, и мы не можем помешать им еще долго думать про нас такую глупость. Знаете, почему они сильны? Потому что они веками кормятся за счет всего мира. И сколько ни ворчи, ворчней это не остановишь.
— Чему бы мы ни научились, это их не остановит, — равнодушно ответил Хуссейн.
— Ты просто боишься их, — мягко возразил Каласинга.
— Ты прав, я боюсь… и не только их. Мы потеряем все, в том числе наш образ жизни, — напророчил Хуссейн. — А молодые люди утратят еще больше. Наступит день, когда те заставят их наплевать на все, что мы знаем, заставят вытвердить их законы и их историю мира так, будто это слово Божье. И когда они напишут о нас, то что скажут? Что мы рабы.