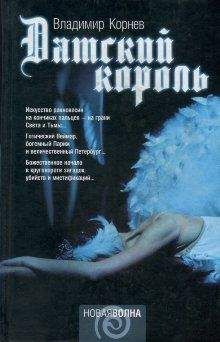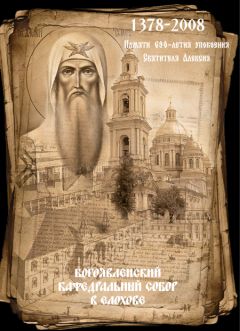После этого он, близоруко прищуриваясь, стал произносить слова какой-то молитвы — собравшиеся было уходить солдаты посмотрели на него с некоторым удивлением. Трудно было понять, славянская ли речь льется из уст батюшки, или это фразы чужеземной латыни. Явственно слышались родные, русские слова, только понять их смысл было невозможно. Отчетливей других звучали обрывки латинских фраз: «anima ejus» и «ego legion sum». Когда молитва закончилась, батюшка замолчал, опустив голову.
Каждый выходивший из храма являл своим обликом свидетельство мучительной гибели: у одного из спины торчал германский штык, другой зажимал рукой смертельную рану на груди, какой-то унтер с выкатившими из орбит красными глазами и багровым изъеденным ипритом лицом беспомощно крутил в руках противогаз, хрипя: «Да что же это, Господи? Как эта хреновина надевается? Что же это…»
На площади «убиенных» героев ожидал народ.
Прямо под открытым небом на длинных столах была приготовлена поминальная трапеза: высились горы блинов, отдельно стояло растопленное масло и припеки[3], в больших глубоких блюдах розовела медовая кутья, поблизости — четвертные бутыли очищенной. Выходившим из храма «солдатушкам» подносили стаканы водки, офицерам — серебряные чарки. Сам губернатор поприветствовал защитников Отечества совсем по-монастырски:
— Христос Воскресе, братцы! — Те ответствовали как положено.
Кто-то из городского начальства тихо произнес:
— Вечная вам память!
Над городом плыл заупокойный звон. Многие женщины голосили. Одна крестьянка в черном платке и черной же плюшевой жакетке, видимо, вдова, недавно потерявшая кормильца на фронте, причитала:
— Ой, да на кого ж ты нас оставил-то! Ой, да кто ж глазоньки твои закрыл, кто ноженьки обмыл! И за что же мне судьбинушка така и деткам твоим сиротам! Ой, сколько ж вас таких упокойничков по Расее всей!
Солдаты выпивали молча, не морщась — словно воду. Закусывали щепотью кутьи, а кто и просто утирался рукавом гимнастерки, с шумом втягивая в себя воздух вместо закуски. Затем земно кланялись, просили у народа прощения грехов.
— Да какие на вас, детинушки, грехи? — шамкал дед, седой как лунь, с медалью на затрепанной ленточке. — Кровушкой своей все смыли.
Молоденького солдатика выносили из храма на носилках — он метался в полубреду-полуобмороке. Его растормошили, осторожно, чтоб не расплескал, поднесли стакан. Сестра милосердия, не отходившая от носилок, одобрила:
— Надо, болезный! Выпей вместо анестезии — полегчает, пожалуй.
Солдат сделал усилие, глотнул прилично, и его тут же начало рвать кровью. Проходящий офицер, увидев это, тупо отреагировал:
— При жизни не пил, а перед смертью не надышишься! Хлипкий пошел солдат. Раньше ваш брат, рядовой, нас, прапоров желторотых, учил водку пить… — И, подумав, заплетающимся языком добавил: — А все-таки гадость какая, господа! Aqua vitae[4] — битте дритте… Тьфу!
Мутным взглядом, пошатываясь, он оглядел стоящих рядом боевых товарищей:
— Что ж вы такие все пьяные, братцы?
Последний солдат, с перебинтованной головой, с накрепко подвязанной колючей проволокой челюстью, опирался на ближайшую от входа колонну.
— А мне бы сейчас водчонки. Ох, и напился бы! Хоть через соломинку… — шепеляво канючил он, разнимая окровавленные губы пальцами и показывая своему соседу зияющую дыру на месте выбитого зуба. Единственный из своего полка он был на удивление трезв.
Сосед ехидно поинтересовался:
— А блевать как будешь, тоже через соломинку? Дура!
Опять послышались безутешные рыдания о «заупокойных». Плач волной прокатился по толпе, перерастая в дикий рев.
Вздрогнув от пронзительного женского вскрика, Арсений проснулся, протер глаза. Было утро 1909 года.
Он сидел за молитвенником гуттенберговых времен. Под окном царствовал Nachtigall[5] — заливалось соловьями тюрингское утро. Зрение почти не различало отдельных слов в плотно спрессованном готическом тексте.
«Какой странный сон, — подумал Арсений, медленно приходя в себя. — Какой удивительный и страшный сон. Что все это может означать?»
Почему-то не выходили из головы латинские слова, произнесенные батюшкой, отпевающим мертвую гвардию: «…anima ejus…», «…ego legion sum…». Это было как наваждение: пока Арсений сомневался в их смысле, они сидели в сознании занозой. Тогда пытливый юноша открыл словарь, перевел точно: «…дута того…», «…я — легион…» и убедился в том, что школярское знание латыни не подвело.
Перед каждым уроком рисунка Арсений должен был читать молитву со своими маленькими подопечными. Латинских молитв он, конечно, не знал, но мадам Флейшхауэр потребовала, чтобы русский «преподаватель» заучил наизусть хотя бы «Pater noster». Арсений решил запомнить, просто вызубрить эти несколько строк по-латыни. «И чтобы, как говорят русские, от зубов отскакивало! — слышался ему строгий наказ просвещенной немки. — „Pater noster“, дорогой мой, — это камень веры!»
Арсений помнил, с какой легкостью заучил он в детстве «Отче наш» — молитва предков чудесно проявилась в душе, словно на фотографической пластинке. С латинским текстом оказалось значительно труднее. Никак не хотел он ложиться на душу — видно, не находилось там для него места. Бесполезно повторяли губы слова «мертвого» языка, отскакивали они не от зубов, как того желала лютеранка Флейшхауэр, а от мозгов, или, может, от самого сердца. Так и заснул он за конторкой, уткнувшись лбом в ветхий молитвенник, раритет университетской библиотеки.
Собравшись с мыслями, Арсений тотчас же поспешил разбудить Звонцова. За стеной вновь кто-то вскрикнул.
— Что это? Интересно, у хозяйкиного племянника новая подружка? — зевнул Звонцов. — А который час?
— Семь, разумеется. Немцам в пунктуальности не откажешь!
— Нам и будильник с ними не нужен. Странные эти немцы! Прислуга вчера сказала, что у нашего соседа и супруга, и дети есть. А он… Вот что творят власть и деньги… Знаешь, с тех пор как мы в Германии, мне по ночам снятся кошмары. — И Звонцов отправился совершать свой утренний туалет.
Арсений задумчиво разглядывал молитвенник. На картинке-заставке вверху страницы была изображена сцена дарования молитвы ученикам. Средневековый гравер почему-то «нарядил» Спасителя в королевское облачение — в багряницу яркого кармина, а коленопреклоненных учеников — в одежды XVI века. Здесь были пышно облаченные епископы, монахи в сутанах, с непременными тонзурами[6], придворные в крахмальных брыжах[7], тесных лосинах и с подвитыми локонами, бюргеры в блинообразных шляпах (их комплекция выдавала любителей пива и копченых каплунов), ландскнехты в железных латах, пейзане в деревянных башмаках и пейзанки в корсажах и кружевных чепцах. Гравюра отдаленно напоминала работы Дюрера или Альтдорфера, но была лишь образчиком дурного подражания.
…Арсений перевел глаза на текст молитвы, и вдруг что-то вспомнилось ему из недавнего сна. Откуда-то всплыли, высветились в сознании произнесенные священником таинственные строки. Текст, запечатленный почему-то убористой кириллицей, возник перед глазами Арсения, сам собой разделился на слова и фразы. Он схватил перо и стал лихорадочно записывать свое чудесное видение: «Потерян, остер: кой я сын? Кой я лис, сам к Ти — дикий тур! Но мя на том отвини! То отрыгну, то. Ум Свят, волю напасти, войти. Николи лаяти Ти! Аминь. Теряю, Пане, мой струг! Ко Ти деянье ми дал, но бес ходит; прям я Те, но бес дыбит, ан остра утечность — время-т! Им в устех быть у рыб. Узду страсти носи, дока! Сын Те, Тятя, а не в седли — безрадость. Ум малый! Аминь». Холодный пот капельками покрыл его лоб, сердце тревожно заколотилось: «Молитва! Ведь получается новая молитва! Исповедь отчаявшегося грешника — безблагодатная и невразумительная. Но поэзия какова: „…ан остра утечность — время-т… Сын Те, Тятя, а не в седли — безрадость…“ Это же удивительно!» И снова обратился Арсений к католическому молитвеннику: «Pater noster qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum. Advenitat regnum tuum, fiat voluntas tua, ut in coelo et etiam in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et remitte nobis debita nostra, ut et nos remittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen». Записанная без знаков препинания, сплошной строкой, католическая молитва словно ударила Арсения в грудь: «Значит, батюшка читал „Pater Noster“! Причем читал так, как будто не знал, что это римский перевод „Отче наш“! Или знал, но специально произносил слова на славянский манер!»
Долго еще Арсений сличал два текста, пока окончательно не убедился в их поразительном сходстве. Затем решительно захлопнул пыльную инкунабулу[8] и тут же чихнул. Теперь он знал урок назубок, только вот латинская молитва приобрела для него особый «русский» смысл.
Зазвонил колокольчик — пора было спускаться на завтрак. «Фриштикать». Звонцов заторопился: вдруг фрау Флейшхауэр уже в столовой и он заставит себя ждать! Арсений остался, как обычно, читать утреннее правило.