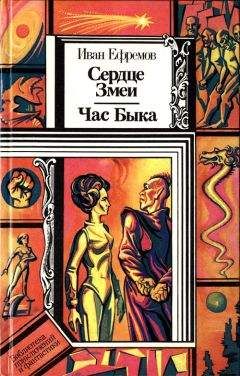— Плохо, издали. Завтра день прошений: всех подпускать будут к престолу. Близко увижу, лицом к лицу. Очень мне нравится. Радость-Солнца, Радость-Солнца, видеть его — радость! — говорил Иссахар умиленно, восторженно.
— Нет, не будет тебе пропуска, — сказал Ахирам, покачав головою решительно. — Бог тебя знает, что у тебя на уме, еще беды с тобой наживешь!
Иссахар вынул мошну из-за пазухи, достал из нее большого, в полпальца, священного жука, Хэпера, из чудесной синайской лапис-лазури, и подал его Ахираму.
Тот жадно схватил его, взвесил на ладони и долго, тщательно разглядывал.
— Славненький камешек! — проговорил наконец, колеблясь между восхищеньем знатока и желаньем сбить цену товара. — Есть на брюшке подпалинка, муть будто кажет, прозелень, а ничего, недурен, даже очень. Из казны Амоновой, что ль? Украл?
— Что ты, дядюшка, я не вор. Святой отец подарил.
— Ну-у! За что же! А впрочем, дураки на свете бывают всякие: дарят и ни за что… Сколько возьмешь?
— Ничего, только пропуск достань.
Глаза у старика разгорелись. Опять осмотрел камень, даже полизал, покусал; быстрым, как бы воровским, движеньем погладил свою Авраамову бороду, поднял бровь, прищурил глаз и сказал, отдавая камень:
— Слушай, сынок, в городе сегодня не ночуй: будет облава. Страженачальник Маху что-то пронюхал, бунтовщиков нут-амонских ищет. В Козьей пещере ночуй, над Шэолом. Нааман проведет. Если пропуск достану, приду туда до полуночи, а если нет, значит, дело плохо, — беги, душу спасай!
Иссахар опять подал ему камень, но он его не взял.
— Нет, вперед не надо. Будет товар, будет и плата — я честный купец.
Не лгал: был честен — плут и честен вместе, по завету Авраамову.
— Жалко мне тебя, Рыженький! — проговорил он тихо, со старческой благостью. — Брат твой, Элиав, погиб ни за что: как бы и тебе не погибнуть… Помни, сынок, люди на страданье рождаются, как искры пламени, чтобы устремляться вверх, а все-таки сладок свет солнца живым; и псу живому лучше, нежели мертвому льву.
«Душу мою за камень купил, и вот жалеет», — удивился Иссахар. Опять взглянул на орла, все еще кружившего в небе, вспомнил, что будет завтра, и сердце забилось от радости: «Несет, несет и принесет к Себе!»
Взошли на вершину холма и увидели внизу, в котловине, правильный четырехугольник совершенно одинаковых домиков, пересеченный сетью улочек и огражденный высокими стенами.
Мертвая пустыня была кругом: ни деревца, ни кустика — только камень да песок: зимою холодная могила, летом раскаленная печь: настоящий Ад — Шэол.
Снизу пахнуло на них как бы смрадом тлеющей падали. Ахирам повел носом, поморщился:
— Ох-ох-ох! Человечинкой пахнет, двуногой скотинкой. Ни колодца кругом, ни источника, а на реку-то за водой не находишься: в собственном смраде задыхаются, бедные.
Быстро спустились, всё той же тропинкой, на дно котловины и подошли к воротам Шэола. Ахирам постучался. Открылось оконце в стене, выглянул привратник, узнал старика и отпер калитку. Иссахара сначала не хотел пускать, но Ахирам что-то шепнул ему на ухо, что-то сунул в руку, и он пропустил обоих.
Длинные, узкие, прямые, как по шнуру вытянутые, улочки шли от площади у ворот в глубину селенья. Голая стена была с одной стороны каждой улочки, а с другой — дверцы в глиняных, низеньких, совершенно одинаковых домиках, подобьи скотских стойл: улочки — как бы тюремные ходы; домики — как бы тюремные кельи. Ни кладовых, ни житниц: всем заключенным в Шэоле выдавался казенный паек.
Лужи помоев с тучами жужжащих над ними мух, кучи помета, скотского и человечьего, смердели так, как будто все селенье было одна огромная свалка нечистот.
«Язву проказы наведу на домы ваши, — говорил Господь Израилю. — Если покажется язва на стенах домов, зеленоватые или красноватые ямины, должно выломать камни и бросить их на место нечистое; если же снова язва будет цвести, это проказа едкая; должно разломать сей дом».
Все домы Шэола цвели такими язвами. Мертвые камни изъедены были нечистью; тем более — живые тела людей: сыпи, чесотки, нарывы, лишаи, парши, коросты и страшные белые струпья проказы покрывали несчастных, заживо сошедших в Ад.
Царскою милостью разрешено было семьям узников жить вместе с ними; но и милость сделалась казнью: люди задыхались в тесноте еще большей. «Женки пархатых плодущие!» — смеялись тюремщики. «Умножая, умножу семя твое, как звезды небесные», — благословил Господь Израиля; но и благословенье сделалось проклятьем: дети рождались и умирали бесчисленно, киша в смердящем Аду, как черви в падали.
Все племена пленил ты в свои плен,
Заключил в узы любви,
— вспомнил Иссахар песнь царя богу Атону. «Хороша любовь, — подумал, — живых низвел в преисподнюю!»
Подойдя к Элиавову домику, Ахирам простился с племянником и пошел обратно в город за пропуском.
Иссахар вступил в полутемные сени. Две шелудивых овцы дремали в стойле; старый, больной лошак и ободранный ослик уныло понурили головы у пустой водопойной колоды: вьючные животные возили тяжести в каменоломнях и жили вместе с заключенными.
Тут же, сидя на гноище, куче навоза и пепла, голый, подпоясанный рубищем, древний старик скоблил черепицею белые струпья проказы на теле своем и плакал, вопил однозвучно-глухо, как ветер в ночи. Это был дед Элиавовой жены, Ноэмини, Шаммай Праведный.
Некогда жил он в богатстве, почете и счастьи, имел соловарни у Горьких Озер и множество скота на Гозенских пастбищах; посылал караваны с шерстью и солью в Мадиамскую землю. Был непорочен и богобоязнен, за что и назван Праведным. Думал кончить жизнь в старости доброй, насытившись днями. Но Бог захотел его испытать и вдруг отнял все. Двое сыновей его пропали без вести с караваном в пустыне: должно быть, убили их разбойники; двое других — погибли в восстании. Зять, управлявший всем его имением, сделал на него ложный донос, будто и он, Шаммай, участвовал в бунте. Его схватили, судили и оправдали; но судьи, стакнувшись с зятем, обобрали его и пустили по миру нищим. Все друзья покинули его, жена умерла. Вспомнив тогда любимую внучку свою, Ноэминь, он переселился к ней в Шэол и здесь заболел проказой.
Днем и ночью, сидя на гноище, расчесывал он струпья черепицей и услаждал сердце воплем. Все в доме привыкли к этому бесконечному воплю так, что уже почти не слышали его, как скрипа дверей, шума ветра или стрекотанья кузнечиков.
Остановившись в сенях, Иссахар прислушался.
— Погибни день, в который я родился, и ночь, сказавшая: зачался человек! Для чего не умер я, выходя из утробы? Лежал бы я теперь и почивал: спал бы, и мне было бы покойно. Опротивела душе моей жизнь моя! Скажу Богу: не обвиняй меня, объяви мне, за что Ты борешься со мной? Хорошо ли для Тебя, что Ты губишь невинного?
Так вопил Шаммай, и Иссахару казалось, что это вопль всего Израиля, а может быть, и всего человеческого рода, от начала до конца времен.
Пройдя мимо Шаммаева гноища, он вошел в тесную, темную клеть, где тускло мерцали две плошки-лампады с овечьим жиром, одна — у стены, на деревянной полочке с глиняными уродцами богов Элогимов, другая — на низком кирпичном помосте-лежанке с каменной плитой, служившей столом.
Сидя за ним, Элиав ужинал с двумя гостями, Авиезером, священником, и Нааманом, пророком.
Авиезер был тучный, краснощекий, чернобородый, важного вида человек. Пышная, из финикийской узорчатой ткани, одежда его была неопрятна; множество перстней с фальшивыми камнями блестело на жирных пальцах. Он приехал в Шэол с милостыней узникам от богатых гозенских купцов.
Нааман, лудильщик и пророк, был маленький, лысый старичок, тихий, робкий и застенчивый, с одним из тех простых и добрых лиц, какие бывают у бедных еврейских поденщиков. Он приехал с Иссахаром из Фив.
Были и другие гости, но они сидели поодаль, не принимая участия в беседе и трапезе.
Когда Иссахар увидел брата, человека лет сорока, высокого, сутулого, костлявого, с изрытым глубокими морщинами, как будто измятым, лицом, — все вдруг исчезло из глаз его, кроме этого лица: родного, чужого, жалкого, милого, страшного.
— А-а, наконец-то, пожаловал! А я уж думал, не придешь, — сказал Элиав, вставая.
Иссахар подошел к нему и хотел обнять, но тот, быстрым движением хватив его за руки, не оттолкнул, а только удержал и заглянул ему в глаза, усмехаясь:
— Ну что ж, можно бы, пожалуй, и обняться? Аль брезгаешь? — проговорил, как будто не он, Элиав, медлил обнять брата, а тот — его.
Иссахар бросился к нему на шею.
— Ну, садись, — сказал Элиав, освободившись от его объятий, и указал ему на почетное место рядом с собой, полукруглый, низенький каменный стулец. — А мы тут, видишь, пируем, твоим же гостинцем без тебя угощаемся. Спасибо, что вспомнил, милостыньку нищим прислал. Угощать не смею: вам, египтянам, нечиста наша Иадова трапеза!