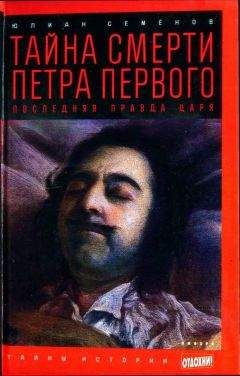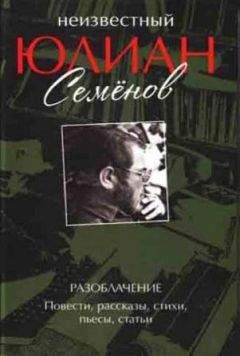…Выслушав тогда Татищева, государь должен был решить участь его; характером, видно, труден, норовист, языкаст. Подумал, что на Урале погубят его, защитить не успеет: пускай отсидится в шведах; когда порешу всё по-новому, когда найду тех, на кого можно перед новой кумпанией — не на поле брани, а в налаживании хозяйства — положиться, тогда верну, приближу, послужит; сейчас неразумно его поднимать, не простят завистники, изведут. Но можно ли вообще идею самодержавия навигационно скорректировать? Или идея "самому всё держать" настолько укрепилась в подданных, что любая новация — во их же благо — вызовет общий протест: "Не нами положено, не нам и менять"? Поймут грядущий поворот или не простят смены курса? Но ведь корабль остается кораблем, несмотря на то что капитан курс правит и обходит штормы неведомым до того маршрутом. Во имя чего? Да для того же, чтоб сохранить корабль! Лучше неведомое новое, чем гибель с привычным старым. Да, коллегии я завел, со шведского примера взял образец, но ведь это как новое вино заливать в старые мехи! Кто за канцелярские столы первым сел, как не те, кому коллегии эти были словно прежние думные приказы, и прибыли с них нет — коль только не красть по-черному и взятку не брать?!
…В приписке в депеше, связанной с открытым поручением — вызнать в горном деле новости и пригласить умельцев, Татищев и сейчас оставался верен себе.
"Государь, — писал он, — обращаться в коллегию, понеже к высочайшему президенту Якову Виллимовичу Брюсу, пользы делу не принесет, все потопнет в трясине, поскольку чиновные люди станут ожидать Вашего мнения, а спросить открыто — как о Федоре-металлурге — не решатся, а коли бы Вы дали им с моих шведских сделок интерес, работа б сама пошла катом.
Здесь, во Швеции, так и поставлено, потому, где у нас пять сотен приписных душ работает, коих силою к стройке мануфактур пригнали и сторожат солдатами, здесь трудится лишь всего пять десятков, охраны нет, все свободны, работают не от страха, а для доброй мзды, хорошего приработку.
Совестно мне, государь, говорить Вам, но ведь тутошний лакей, служащий у лица, занимающего низшее по сравнению со мною положение, получает чуть что не столько от казны, сколько мне, цареву посланцу, поставлено.
Был у меня недавно сговор со шведским умельцем, дабы он уступил мне чертежи своего нового завода за небольшую плату, — так ведь нет! А отчего? Питербурх не разрешил! В деньгах — самых малых — отказал мне! А ныне эти чертежи перекупил француз из Парижа в десять раз дороже, чем то, что с меня требовали. Хоть и не купец я и не деловой человек, но, как и они, бедолаги, лишен свободы поступка. А коли б считал себя вольным в решении, крутился б как волчок: уговорил бы одного, уступил другому, ибо имел бы свою от поступков и расторопности корысть, да дикие мы, торговли бежим, будто только армянину иль жиду это потребное дело, а нам лишь вино пить да лясы точить и сладким мечтаниям предаваться…
Бога за ради простите, государь, дерзость мою, что о помощи в таких суетных делах к Вам взываю; понятно мне, что не Вашего это резону дело, тем не менее помощи прошу, поелику не о себе радею, а о нашей скорбной и прекрасной Руси…"
2…Заехавши в Берг-коллегию, Петр отправился к повару своему и метрдотелю Фельтену (последнее время собирал господ вельмож не у себя дома, чтоб не видеться с Катею, а в доме голландца); за каждый обед сам платил Фельтену червонец и с вельмож требовал такой же платы.
Угощение было отменно простым: поначалу рюмка анисовой водки, затем кислые щи, поросенок в сметане, холодное мясо с кислыми лимонами, любимая государева каша, солонина, блины; сам Петр пил французский "Эрмитаж", способствовавший желудку; намедни перекупил сорок бутылок у английского купца Эльстона по рекомендации своего лейб-медика Арескина; гостей угощал токайским или сладким рейнским; к "каве" подавали сладкое липучее вино португальского производства — темное, отдает виноградом, склеивает пальцы…
В Берг-коллегии Виллим Брюс, добрый островитянин, разумевший по-русски так же хорошо, как и на прежнем, родном, английском, гневный вопрос государя о помощи Татищеву в горном деле выслушал спокойно, с достоинством; ответил, не тая некоторого раздражения:
— Сделайся президентом коллегии, государь, а я останусь в помощниках! Сил у меня более нет, и взяться им неоткуда!
— Силы я тебе прибавлю, этого жди, а вот деньги для Татищева есть?
— Деньги, — усмехнулся Брюс. — Больно просто вопрос ставишь, Петр Алексеевич. Я поначалу, перед тем как наложить реляцию своему вице-президенту, должен собрать предварительное мнение всех господ сенаторов, а их у нас в присутствии постоянно восемь, каждому его адъютанты готовят отзыв, — гляди, месяца четыре ждать потребно. Я в реляции своей написал — "помочь", хотя генерал-фельдмаршал возражал: "Пусть перевертится и склонит шведов за дружбу радеть, а не за ефимки". Слава Христу, Петр Иванович Ягужинский, про его инородческое забыли теперь; он — не я, не Брюс, счастливый человек, ему в нос родительской кровью не тычут, — высказал иное мнение: "Только русские склоняют к дармовой работе словом, да надолго ли? И как велик от такой работы прок?" Мой вице-президент передал письмо Татищева с положительною реляцией по столам — собрать сведения, сколь стоят такие же чертежи в Англии, Саксонии, Голландии, Франции, — на это уйдет еще поди семь-восемь почт, то бишь полгода, а то и более. Засим — проверить надобно, нет ли таких же умельцев у нас, им вменить задание изобресть свои чертежи, не платя шведу денег вовсе. Еще полгода отбрасывай. Не каплет ведь! Только у нас деньгу за должность платят, а не за работу. У нас важно день пересидеть, ничего самому не решать, отнести все бумаги на стол начальнику, что рангом поболе, а тот — в свой черед — то же самое проделывает. Рабье иго в людях, государь; ждут указу; самости своей бегут; ведь проверка им — не результат дела, а твое слово!
Петр задергал шеей, отошел к окну:
— А ежели ты своим мерзавцам — вкупе с почтовым и дорожным ведомствами — от хорошей татищевской работы отдашь часть прибыли?
— Тогда Россия станет первой державой мира, государь. Да разве тебе бояре этакое позволят?! "Басурманство, суета, торжище, так Лондон живет, а он — болтлив и много вер терпит, да еще государей своих позволяет господам парламентариям открыто бранить, не страшась Тайной канцелярии…"
…У Фельтена за обедом, покончив с квасом (кислых щей сегодня не давали, зато квас был отменный, на меду, с острым хреном, шипучий, шибал в нос, а ежели прибавить ложку свежетертой свеклы, делался бордового цвета и совершенно нового вкуса), Петр сразу же набросился на холодную телятину с огурцом (знал, что за употребление этого мяса его тоже за спиною обличали басурманом: виданное ли дело, есть телков, специально под нож кормленных! Другое дело корова, в ней от жизни усталость, а коли усталость видна, так и жалости нету). Покончив с бело-розовым, со хрящом, мясом, но перед тем как приняться за блины, поднял взгляд на князя Голицына, только-только приехавшего из Киева:
— Дмитрий Михалыч, это ты мне подсунул монашка для переводческих работ?
— Коли б мог подсовывать, государь, я б не только одного монашка подсунул.
Генерал-прокурор Петр Иванович Ягужинский посмотрел на Петра, ожидая реакции на дерзость, но государь словно бы пропустил ответ мимо ушей.
— Пресмешное дело случилось давеча, — как-то странно усмехнувшись, продолжал Петр, бросив на большую тарелку десяток тонких, как японская бумага, блинов (ажурны, будто бы кто кружева по ним вязал). — После того как нашим радением перевели и напечатали на российский язык "Фортификацию" Вобана, "Историю Александра Великого", писанную по-латыни Курцем, "Искусство кораблестроения", "Непобедимую крепость" немца Борксдорфера и "Географию" Гибнера, решил я дело сие продолжить — ныне заканчиваю чтением "Гражданскую архитектуру" Леклера и "Точильное искусство" Плюмера. И та и другая книги — отменны, дам в перевод, но, князь, не твоему монаху.
— Что так? — спросил Голицын.
— Да потому как Пифендорфово "Введение в описание европейских государств" я именно ему дал, и он в три месяца и семь дней сделал пересказ; слог хорош; слова чувствует, я было хотел даровать его милостью, но, заглянувши в конец перевода, остолбенел от недоумения, которое есть — в этом я равен со всеми — не что иное, как путь ко гневу. Дело в том, что твой монах самолично выбросил все те места в Пифендорфовом сочинении, где про россиян говорилось со злою колкостью.
— Значит, монашек достойно блюдет нашу честь, — сказал Голицын.
— А про мою честь ты не думаешь? — тихо спросил Петр. — Я ведь не в поругание моему народу велел сию книгу перевесть и напечатать ко всеобщему чтению, а для того лишь, чтобы подданные узрели, как о них ранее смели писать в просвещенных Европах, каковы представления о них были, — тем лучше б стал контраст, какими они на самом деле ныне являются. Я начал отсчет по новому календарю, но от старого не отрекаюсь, вижу путь, дабы и в нынешнем новом истинно старое — но лишь то, что профитно делу и благородно душе, — сохранить в назидание потомкам. Лишь слабый может дух свой потерять; сильный — сохранит; слабый — неуч; силен тот, кто знает…