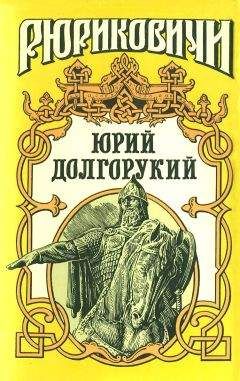Мономах много думал об этом благе земель на Москве-реке. В конце концов, он заложил здесь военный княжий посёлок, поставил своих людей. Потом стал дарить любимым своим воеводам вотчины вдоль реки, чтобы селили бояре своих ратников да крестьян в примосковских лесах, крепили ту землю, добывали себе и князю доход и силу.
Младший из сыновей Мономаха - Юрий с детства жил в отцовых местах: в Ростове Великом, в Суздале, во Владимире, за надёжной Москвой-рекой. Уйдя княжить в Киев, отец отдал Юрию этот удел не без умысла: пусть младший тоже крепит здесь Русь, растит покой да богатства!
И вот теперь, когда уже не было Мономаха, и Юрий стал стар, и пошла борьба за киевский «стол», за выгодное княженье, и дым да набат поднялись над полями Чернигова, Киева и Смоленска, а кровь полилась, как брага на буйном пиру, - теперь земля за Москвой-рекой стала вдруг вожделенной для всей Руси.
Недаром пошли сюда многие осиротевшие и голодные люди, ища защиты…
Но ни Страшко, ни другие бежане ещё не знали имени той реки, к которой они подошли этим ясным холодным утром. Они глядели на ледяные закраины и на тёмную быструю воду пока лишь с тоской и болью: вот и ещё река… ещё одно горе. Зачем того горя так много на краткий век человечий?
Одичалые и худые, еле передвигая усталые ноги, горбясь, кто от тяжести лет, а кто и от хвори, кашляя, всхлипывая и трясясь от стужи, кутаясь в клочья своей убогой одежды, бежане спустились с высоких правобережных гор в большую долину. Они столпились в долине напротив того холма, на котором стоял посёлок, и долго смотрели туда, крестясь и вздыхая.
Бежане не видели в этом посёлке ни счастья себе, ни радости. Просто - текла и вот-вот готова была замёрзнуть большая река с холодной быстрой водой. А на той стороне, на холме, где лес уже изрядно порублен, стояли избы. Как переплыть бежанам студёную реку? Примут ли их в посёлке хоть на день, хоть на два чужие люди? Неужто и тут их встретит беда и лихо - без хлеба, без доброго слова и без тепла? Уже лютует ноябрь. Снег не раз падал на звонкую землю, а то и грязь ледяная студила ноги. Ветер качал истомлённых людей, звери драли отставших. А вон конца и не видно: опять река… и опять леса… опять холмы и долины… Скоро ль безвестный Суздаль?
На той стороне реки стояли чужие люди. Кто-то из них возился возле большой ладьи, огребая вокруг ледок. Мирошка призывно крикнул:
- Ого-о-о!
Ермилка с Вторашкой, сыном рыжего горшечника Михаилы, хоть и голодные и холодные, а всё по-мальчишески озорные, завистливо поглядели на звонко вскрикнувшего парня и тоже разом вскричали:
- Ого-о-о!
Их крик полетел через гладь реки в просторном покое неба легко и быстро. Сразу певучий отклик пошёл с холма, и опять на холм, и снова к бежанам, будто в синем блюде реки, сжатой лесами, вдруг стала кататься большая бусинка из богатого ожерелья! Мирошка ещё раз крикнул:
- Ого-о-о! Ермилка добавил:
- О-о-о!
И на той стороне чуть слышно возникло:
- Чего-о-о!
- Дай нам ладью, - попросил Мирошка. - Эй, старче!
- Да-ам… леший!
Ладья повернулась кормой к холму, взметнула крыло весла, как грузная птица, и поплыла к бежанам. Вскоре она со скрипом уткнулась смолистой грудью в песчаный, низенький бережок.
В ней на скамье, с веслом в руках, сидел древний сухонький мужичок. Был он в стёганой зимней скуфейке на маленькой голове, подпоясан лыком, в лыковых мокрых калигах, подвязанных лыком же к согнутым, тощим ногам.
Старик походил на доброго деда-лесовика. Но Любава сразу его узнала: это был тот самый сердитый монах Феофан, который в прошлое лето прошёл через их Городец и рассказывал ей о рае. «Значит, вот где он сел на землю! - подумала девушка удивлённо. - Значит, это сюда он шёл вразумлять язычников, жить постом да жаркой молитвой! Но что ему делать на этом пустынном месте? И что-то уж больно похож он на пахаря-смерда: сними с него скуфейку - и впору ему шагать за сохой вдоль поля!»
Бойкий Ермилка уже помогал чернецу утвердить ладью и сажать людей. Любава тоже продвинулась ближе к ладье и, как родному, сказала:
- Здравствуй, деда!
Старик-черноризец мельком взглянул на Любаву сердитыми, как ей показалось, маленькими глазами из-под седых кудлатых бровей. Ничего не ответив, он начал командовать торопливой, кучной посадкой:
- Сунь сюда чад своих, баба. Сама садись рядом. Ты, отрок, пока постой. Пусть раньше сядут иные, а ты - малый лёгкий, прилепишься после.
- Я и не лезу! - с обидой сказал Ермилка. - Я, чай, помогаю… Вон и Вторашка тоже. Ведь верно, Вторашка?
- Ну да, - ответил Михайлов сын, хотя ему очень хотелось первому влезть в ладью.
- А-а, вы помогаете? Это славно! - серьёзно сказал черноризец. - То-то мне стало легче. Тогда - добро. Иди-ка, садись, старуха. Не тычься без толку. Да не гнуси, не плачь понапрасну: сейчас доплывём - обогреешься, свет увидишь. Стой, стой, молодая: чай, больше нельзя - потонем. Сейчас отвезу, потом за тобой приеду…
Он торопил, отстраняя, приказывал или заботливо усаживал замёрзших, измученных, плачущих, судорожно хватающихся за борта ладьи старух и детей и всем говорил слова утешения и заботы. Голос его был тонок, надтреснут, руки, покрытые ссадинами, худы, силы в них было мало, но он брал чад на руки, спрыгивая в воду, ломая хрупкие льдинки, удерживал лодку и делал всё это ловко, от доброты своего сердца.
Когда большая ладья наполнилась до отказа, только тогда старик взглянул на Любаву, стоявшую возле самой воды, и с быстрой, мягкой улыбкой негромко сказал ей:
- Теперь вот и здравствуй, дочка. Чего в ладью не вошла?
- А я тут с тятей да с братцем!
Любава взмахнула рукой в сторону брата и бати, но взгляд её, когда она обернулась к своим, остановился лишь на Мирошке.
- Мы уж тут вместе. Вишь, всё равно в ладью твою все не сели! - Она кивнула на баб, не попавших в лодку. - Тесно…
- Мы после поедем, - вмешался юркий Ермилка. - Вначале, чай, надо баб: с ними - малые чада…
Ермилке было тринадцать лет, но он считал себя взрослым, и перевозчик, взглянув на него, опять серьёзно сказал:
- И то.
- Ты, чай, приедешь ещё не раз? - спросила его Любава. - Тогда мы сядем все…
- Я мыслю, что речка пока не встанет, - кивнул старик на быструю воду. - Ещё раза три приеду, всех заберу! А кто ты? Забыл я…
- А помнишь, деда, запрошлый год? Ты был у нас в Городце, рассказывал мне о рае…
- А-а… будто и помню!
Старик пожевал ввалившимися губами, подумал, потом вздохнул, нагнулся к ладье, натужливо крякнул и ловко спихнул её в воду.
В третий раз возвращаясь к низинному берегу, где лодку нетерпеливо ждали бежане, старик уже с превеликим трудом работал вёслами. Но было видно, что он хотя и измаялся, еле жив, а будет гнать свою лодку сквозь зимнее «сало» не раз, не два, пока не перевезёт всех бежан на обжитый берег.
- Знать, добр он, старче! - с улыбкой сказал Мирошка, следя за грузным ходом ладьи. - Чуть жив, а за нами по стуже едет и едет…
- А ты вот будь и того добрей, - наставительно откликнулся Страшко, поправляя котомку на костистых, больших плечах. - Ты парень в силе - помочь старику не грех.
- Ну-к что ж, помогу! - охотно решил Мирошка. - На весла сяду. Чай, мне на вёслах-то лучше, чем так сидеть: погреюсь работой всласть! Согласна со мной, Любава?
Он обратился к Любаве не потому, что хотел ответа, а потому, что всё время влёкся к ней мыслью. И девушка это чувствовала. Её округлые щёки порозовели, глаза счастливо сверкнули, она сказала:
- Вестимо, будет теплей! - И, чтобы скрыть счастливое смущенье, отвернулась к реке, по которой тащилась лодка.
- Дай и мне погрести! - попросил Ермилка Мирошку.
- Я, чаю, тоже сумел бы! - ревниво вскрикнул Вторашка.
Но парень сказал:
- Ни-ни, я сам. Во всю свою силу буду гресть. Такую ладью вам и с места не стронуть!..
Ладья была древняя, как и сам перевозчик. Ткнувшись в затянутый льдинкой берег, она широко всхрапнула, как очень уставший зверь, повернулась боком и покачнулась. Бежане полезли в неё, ступая прямо в стылую, ледяную кашу, покрывавшую днище. Они расселись, дрожа от стужи и нетерпенья, и бойкий Мирошка ударил вёслами по воде.
Ладья заскрипела, берег пошёл назад. А навстречу ладье, за спиной размашисто гребущего Мирошки, стал наплывать похожий на колокол иззелена-бурый холм.
- Ты тут перевозчик, иль как? - спросил Страшко тяжело дышавшего деда.
- Нет, я не то, - негромко ответил дед. - Я тут вожу бежан для-ради добра. Вон, видишь часовенку на холме? - Дед показал крючковатым пальцем в сторону берега. - Та вон часовня - моя. При ней обитаю…
- А что за река? - продолжал Страшко. - Видать, богата она, преславна?
- Видать, что и так. А имя реке - Москова… Заросшее чёрной, большой бородой худое и хмурое лицо Страшко мгновенно повеселело: