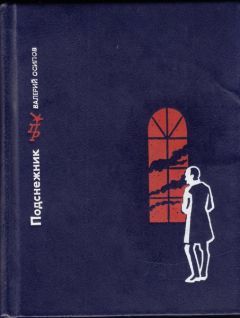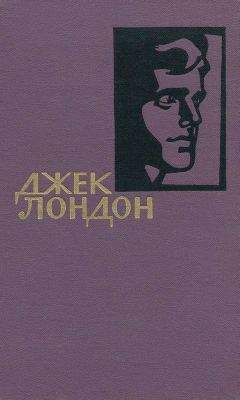Рыжебородый Тимофей посматривал на Жоржа изучающе, хитровато прищурившись.
— Сейчас подойдет еще одна наша группа, — сказал Егорову Осинский, — человек десять. Все вооружены. Если полиция попробует вмешиваться, будем стрелять. Как ваши, готовы к этому?
— Тоже кое-чего с собой прихватили на всякий случай, — сказал Иван. — У нас народ к оружию привычный, сами его делаем.
— Вот только не нравится мне, — заметил Осинский, — что фабричные опять на похороны вырядились, как на праздник.
— Рабочему человеку только и праздник, что похороны, — горько усмехнулся стоявший рядом Степан Халтурин. — Куда же еще наряжаться? Все остальные дни в рванье замасленном ходим.
— Верна-а! — неожиданным густым басом зычно поддержал Халтурина рыжий Тимофей. — Наши праздники все на кладбище. Других начальство не придумало.
— Ты, Тимоха, больно широко пасть-то не разевай, — одернул земляка Иван Егоров. — Холодно сегодня, кишки простудишь. Да и городовые тебя по глотке твоей медвежьей приметят раньше времени и заметут без всякого дела.
Валериан Осинский взял Халтурина под руку, отвел в сторону.
— Ты неправильно меня понял, — сказал он тихо. — Я не в упрек сказал, что ребята слишком чисто оделись. Ведь мы же хотим не просто похороны провести, а устроить демонстрацию протеста. А у всех фабричных действительно какое-то пасхальное праздничное настроение. Никакой активности не будет.
— А ты наперед не загадывай, — сказал Халтурин. — Насчет активности бабушка еще надвое сказала. Листовку читали, внутри — оно там у всех копится.
Жорж, слышавший этот разговор, был на стороне Осинского. Рабочие по привычке своей одевать на люди все самое лучшее выглядели совсем не траурно. Все оживленно переговаривались, некоторые даже улыбались, шутили.
Но вот вынесли гробы, и все разговоры разом стихли. Двухтысячная толпа как по команде сняла шапки. У Жоржа защемило сердце — в этом мгновенном перепаде от владевшей всеми оживленности к растерянной и молчаливой скорби огромной, празднично одетой толпы было что-то жуткое, что-то младенчески незащищенное, безропотное, доверчивое, и шесть гробов, плывущих на руках над головами, были зрительным выражением, страшным символом этой незащищенности всей большой человеческой массы перед какой-то незримой, зловещей силой.
Что же надо сделать, чтобы хоть как-то обуздать эту чудовищную силу, чтобы хоть как-то уменьшить ее втягивающую, всасывающую гробовую силу, чтобы хоть как-то защитить от нее всех этих покладистых и доверчивых — и тем-то и незащищенных — людей? Что можно противопоставить этой силе?
Похоронная процессия растянулась на несколько кварталов. Большинство провожавших сразу же, как отошли от завода, надели шапки — мороз усиливался с каждой минутой. «Бунтари» из боевой дружины Валериана Осинского, одетые очень легко, шли сзади Жоржа, растирая носы и уши, похлопывая себя по бокам и плечам. До слуха долетела брошенная кем-то из них фраза:
— Нет, господа, революцию надо делать летом — в такой холод никого не расшевелишь…
Вот и Смоленское кладбище. В дальнем углу, наискосок от входа, выдолблено в мерзлой земле шесть ям, шесть деревянных крестов прислонено к железной ограде. Полиция, сопровождавшая шествие от самого завода, усиленная отрядом городовых, ожидавших около ворот, окружали могилы. Священник пропел последнюю молитву, забили крышки, подвели веревки, начали опускать гробы в ямы, застучали комья земли по дереву. Двухтысячная толпа, заполнившая кладбище, молча слушала эти звуки. Да, пожалуй, Осинский был прав: сначала все были слишком оживлены, потом замерзли — демонстрации протеста не получалось. Все были как-то угнетены, подавлены видом городовых, кольцом обступивших могилы.
Все кончено. Насыпаны холмики, укреплены кресты. Пора было расходиться, но толпа, несмотря на мороз, неподвижно стояла на кладбище. Чего-то ждали.
Жорж понимал: кто-то вот-вот должен начать говорить, больше молчать нельзя. Но неизвестный этот «кто-то» пока не объявлялся. Может быть, робел, смущался, опасался полиции? Может быть, начать ему? Ведь он же Оратор. Надо бросить искру, надо зажечь революционным словом это заснеженное кладбище, эти опущенные, покрытые инеем головы. Надо поднять эти головы!
Он взглянул на Халтурина. Степан стоял, низко опустив голову. Рядом с ним, так же опустив голову, стоял Ваня Егоров. И все рабочие завода, кого только мог видеть Жорж, стояли в таких же позах — без шапок, опустив руки, склонив головы. Все прощались с только что зарытыми в землю, навсегда ушедшими товарищами.
Жорж посмотрел на дружинников Осинского. «Интеллигенты-бунтари», сгрудившись тесной группой, пристально следили за городовыми.
Городовые начали шушукаться, поглядывать по сторонам. Нечего было даже и думать, чтобы предпринять какие-либо действия против такой массы людей. Старший полицейский чин, околоточный надзиратель, растерянно озирался.
«Надо начинать говорить», — решился Жорж.
И вдруг в толпе произошло резкое движение — к могилам вышел рыжебородый Тимофей.
— Братцы! — густым и звонким на морозе басом закричал Тимофей. — Только что, сей минут, закопали мы в землю шестеро невинно погубленных душ!.. А убили их не турки на войне, их убило наше заводское начальство, которому столько раз было говорено, что нельзя порох в таком тесном чулане хранить…
Околоточный, выхватив свисток, пронзительно засвистел. Руки городовых потянулись к Тимофею, схватили его за отвороты полушубка, но Тимофей — даром, что ли, был поперек себя шире — тряхнул круглыми плечами судового «клепалы», и городовые посыпались в стороны.
И неожиданно толпа, еще секунду назад безнадежно неподвижная и аморфная, ожила, заворочалась, преобразилась, пришла в движение как единый организм, прихлынула к могилам. Околоточного оттолкнули в сторону, городовых оттеснили от Тимофея. Мгновенно забыв о том, что на них надето самое лучшее, праздничное, рабочие кинулись по истоптанному в грязь снегу вперед и, обрывая пуговицы, полезли на ограду и деревья, закричали десятками переполненных яростью и ненавистью голосов:
— Не тронь рыжего!.. Пущай говорит!.. Ребята, рой приставу яму рядом с нашими!.. Гони бударей в господа, в душу, в святые хоругвы!
Иван Егоров, выскочив к Тимофею, заслонил его собой. Валериан Осинский, напряженно держа руку за бортом студенческой шинели, где у него лежал тяжелый револьвер, не сводил глаз с околоточного. Все «бунтари», готовые открыть стрельбу по первому знаку, с наиболее разъярившимися рабочими теснили от могил городовых. Степан Халтурин, обхватив сзади какого-то расхристанного малого, выломавшего кол из забора и рвущегося к полицейским, с трудом удерживал его.
— Говори, Тимофей! — не вытерпев, крикнул Жорж. — Продолжай, не молчи!
— Жарь, Тимоха! — гаркнул Ваня Егоров.
— Сколько раз говорено было начальству нашему, — закричал снова упрямый Тимофей, продолжая с того места, на котором его оборвали, — что нельзя было порох в таком тесном чулане держать!.. Одна дверь из чулана в мастерскую — и никто из нее целый не вышел!.. Когда точим мы порох на станках, пыль от него вокруг нас падает, станки покрывает, на стены ложится! Одной искры хватило, чтоб все загорелось!.. Сколько раз мы сами малые пожары тушили, сколько раз жаловались, а начальство все на бога надеялось, все ждало чегой-то и дождалось!.. Вот они, шесть крестов стоят, а сколь еще встанет, пока пыль пороховую мести не станут!.. Шестеро вдовых баб возле этих могил стоит, у кажной ребятишки, а сколь отвалили хозяева за кажного кормильца? По сорок рублей за голову — курам на смех! А проедят они эти сорок рублей — чего дальше делать будут? На паперть просить пойдут, руку протягивать?.. Так турки не поступают, как начальство наше над нами измывается!.. Нас жгут живьем в мастерских, а тех, кто живой остался, оштрафовали по полтора целковых!.. За что?.. За то, что обжоги мы получили?.. Хватит руку лизать, которая нас душит, пора за ум браться!.. Чего ждать?.. Других крестов рядом с этими?.. Мужик в деревне ждал от барина помощи, земли ждал, а чего дождался? Песков, да болот, да недоимков сильнее прежних!.. Набили мужику новый хомут на шею теснее старого — он и воет!.. А не будь дураком, не жди от барина милости, не дождешься!..
Жорж с восторгом смотрел на Тимофея. Вот они — слова из уст простого фабричного! Социалистическая агитация дошла до сердца и до ума рабочего человека, и то, о чем раньше говорили ему они, пропагандисты, теперь говорит он сам, рабочий! Значит, он проснулся, пробудился, воспламенился, рабочий народ! Значит, он готов теперь к бунту и поддержит любое крестьянское движение, если он объединяет свое положение с положением обманутого реформой крестьянства.
На фоне белых, заснеженных кладбищенских деревьев большая рыжая борода Тимофея и такая же рыжая всклокоченная шевелюра (шапку он потерял) горели ярким, огненным пятном. Дружинники Валериана Осинского, взяв Тимофея в кольцо, вели его через кладбище к выходу. Огромная, тысячная толпа разгоряченных рабочих, окружив их со всех сторон, двигалась вместе с ними к воротам. Другая толпа фабричных, прижав полицейских к ограде, не пускала их к той группе, в которой шел Тимофей.