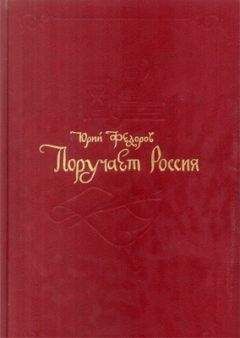Толстой ныне просил разрешения отправить закупленные им для своего брата — азовского воеводы — вещи морем.
— А, — восклицал, — торговое судно снарядим и прямо в Азов! Так помалу морской путь в Россию и отворим.
Петр Андреевич, конечно, лукавил. Вещи, которые он хотел отправить в Азов, были не его и не для брата куплены. В Россию возвращался Савва Лукич Владиславович. Товары принадлежали ему, но послу российскому нужно было создать случай отправки торгового судна в Азов. Не так важны и ценны были сами вещи, как почин. Турки отказать послу в отправке вещей для брата не посмели.
Двухмачтовый галиот стоял у причала, и Петр Андреевич дважды и трижды в день ездил на берег. Следил за погрузкой, беспокоился, волновался, как бы в последнюю минуту турки не отменили разрешение, и был счастлив. Даже забронзовел лицом под жарким солнцем, был необычно шумен и словоохотлив.
— Моряк ведь я, моряк, — говорил Савве Лукичу, похлопывая ладонью по мощному стволу мачты, — на Мальту ходил в шторма… Море было бурно!
Над галиотом кричали чайки, сгибаясь под тяжестью тюков, грузчики шагали по скрипучим трапам, мимо борта галиота скользил по тихой воде сандал, покрытый богатыми коврами. Какие-то турки с полнокровными, сытыми лицами рассматривали не без удивления русских.
— Хорошо, — оглядывал берег и море Петр Андреевич, — ей-ей, хорошо! — И, вдруг сев на бухту каната у борта, сказал: — А я вот здесь приткнусь и с судна не сойду. Так и в Азов приду.
Савва Лукич рассмеялся.
— Нет, — возразил, — а кто посольские дела править будет? Толстой, опустив лицо, помолчал с минуту и сказал с очевидной печалью в голосе:
— Завидую тебе, Савва Лукич. Ох, завидую. Недели не пройдет, на своей земле будешь… Завидую… В церковь сходишь, в баньку, кг полке тебя попарят с кваском… Брат мой, Иван, в баньке толк понимает, так что заранее могу обещать: банька у него отменная и венички наверняка есть…
Упер ладони в колени и молчал долго-долго. Молчал и Савва Лукич. Знал: дела заворачивались в Стамбуле круто.
Последнее время Петр Андреевич писал в Посольский приказ, что «здесь суть вельми спокойно». И вдруг ветерком в Стамбуле потянуло. Холодным, знобящим ветерком.
Карл шведский заплутал на петлистых южных российских шляхах. Казалось — у этой земли нет края. С каждым днем, с каждой пройденной верстой незаметно, исподволь, но неизменно нарастало напряжение. Так бывает с человеком, который идет по темному коридору. Он делает шаг, другой. Ничто не грозит опасностью. Он идет дальше, и опять шаг, другой. Неожиданно нога начинает ощущать какую-то зыбкость пола, слух улавливает невнятные шорохи. Человек делает еще шаг, еще, еще… Лица вроде бы касается не то паутина, не то чье-то дыхание. Человек останавливается и, убеждая себя, что это показалось, делает еще несколько шагов. И тут нога отчетливо ощущает опасную неровность, слух явно различает подозрительные скрипы, и безотчетная тревога рождается в душе… Но армия Карла все еще двигалась вперед. Солдаты, нагуляв жирок в благодатной Саксонии, шагали даже бойко, но генералы уже оглядывались окрест с опаской. И вдруг, как выстрел в упор, грянула весть из корпуса генерала Левенгаупта, шедшего из Риги на соединение с главными силами короля.
Карл прилег на походную постель, когда у входа в королевскую палатку раздался взволнованный голос дежурного офицера:
— Ваше величество! Ваше величество…
— Ну, что там? — недовольно скрипящим голосом откликнулся король. — Войдите.
Дежурный офицер отдернул полог и, поколебав свет свечи в грошовом шандале на столе, остановился у входа. Карл, недовольно повернувшись на постели, оборотился к нему, и глаза короля удивленно расширились. Лицо дежурного офицера выражало полнейшую растерянность, ежели не страх.
— Что случилось? — невольно заражаясь волнением, спросил король.
— Солдат из корпуса генерала Левенгаупта! — почти выкрикнул офицер. — Он доносит… — офицер задохнулся, проглотил слюну, — он доносит…
Король поднялся с постели и с плохо сдерживаемым бешенством спросил:
— Так что же он доносит? Что вы мямлите?
— Корпус генерала Левенгаупта, — упавшим до шепота голосом сообщил офицер, — разгромлен.
Через минуту перед королем стоял солдат из корпуса Левенгаупта. Мундир на нем был порван, лицо захлестано грязью. Солдата шатало, и его поддерживали под руки. Это был рядовой лучшего гренадерского полка, случайно вырвавшийся из окружения. Он был так плох, что ему дали кружку вина, и только тогда солдат смог рассказать, что корпус разгромлен, а обоз в две тысячи телег, в котором было продовольствие и порох для армии Карла, захвачен казаками. Гренадер охватил голову руками и склонился на стуле.
— О боже, — невнятно выговорил он, — моим глазам пришлось увидеть такое… — Вдруг, выпрямившись, он с яростью и слезами выкрикнул в лица офицеров и придворных короля: — Корпуса больше нет!
В глазах солдата, казалось, зажглось безумие.
— Это ложь! — свистящим шепотом выговорил король и, заметавшись по палатке, вскричал: — Ложь!
Но это не было ложью.
Разгром шведов под деревней Лесной многих заставил задуматься.
То, что Карл увяз в бескрайних российских просторах, было понятно и без того, но гибель восьми тысяч шведов под Лесной потрясла Стокгольм. Не один колокол ударил в шведской столице по погибшим и не одна мать заголосила, рвя на себе волосы. Да и не только в столице.
— Да… — говорили по всей Швеции, горестно складывая губы, — однако…
— Оно, конечно, хорошо иметь порты в Прибалтике, хороши русские пенька, лен и хлеб, но восемь тысяч солдат…
— Это здоровенные парни с сильными руками, которые бы на родных полях выращивали отменные урожаи…
— Король слишком увлекается…
— Увлекается? Нет, это следует назвать по-другому!
В эти дни в Стокгольме собрался сенат. В мрачный зал окна едва пропускали сумеречный свет. Лица сенаторов были угрюмы. Говорили долго о пустующей казне, об обезлюдевших деревнях, о тревожных разговорах среди судовладельцев, лесопромышленников, купечества. Но к единому мнению так и не пришли и ограничились петицией в ставку короля. В ней отчетливо звучали тревога и желание предостеречь короля от дальнейших необдуманных действий.
После заседания сената королевский советник граф Пипер вышел на ступеньки подъезда и остановился, вглядываясь в сгущающиеся сумерки. Широкогрудый, массивный, на крепких ногах, всегда отличающийся здоровьем и бодрым нравом, сейчас он выглядел не таким уж крепким и вовсе не здоровым. Ветер с шелестом подкатил под ноги советника желтые осенние листья. Карл Пипер жестко сложил губы. Настроение у него было отвратительное. Он был против похода на Украину и ныне отчетливо угадывал его гибельность. «Вот уж истинно, — подумал Пипер, — от великого до смешного — один шаг. И почему люди из раза в раз переступают эту грань?»
Холодный туман наползал из улиц.
Тревога в Стокгольме не осталась незамеченной другими королевскими домами, признаки беспокойства объявились и в Стамбуле.
Французский двор отозвал неудачливого посла Ферриоля, и на его место был прислан маркиз Дезальер. Петр Андреевич сразу же оценил силу и умение этого еще молодого аристократа. При кажущейся легкости поведения, которое очевидно для всех выказывало, что усилия маркиза направлены только на получение в жизни удовольствий, он обнаружил недюжинный ум и волю к достижению поставленных тайных целей. Маркиз не стал, как его предшественник, задаривать всех подряд в Стамбуле, но, изучив расстановку сил, повел усиленную атаку на визиря Чарлулу Али-пашу. Петр Андреевич понял: французский посол хочет свалить медлительного Али-пашу и подвинуть Порту к войне с Россией. «Христианские державы, — говорил Французский посол, и о том стало известно Петру Андреевичу, — вот уже десять лет заняты взаимными войнами, и надо быть глупцами здесь, в Стамбуле, чтобы не отобрать назад потерянные в России земли и не отомстить врагам религии». Посол высказал это как размышление среди европейских дипломатов, но не следовало сомневаться, что слова эти предназначались для слуха турецкого султана. И наконец, самое огорчительное для Петра Андреевича — в Стамбуле объявились украинские синежупанные казаки. Теперь не оставалось сомнения в том, что Мазепа предал царя Петра и переметнулся в лагерь шведов. Для российского посла в Стамбуле наступали трудные времена. Петру Андреевичу противостояли шведы, французы, люди Станислава Лещинского и Мазепы. Все вместе они представляли грозную силу, но да и Петр Андреевич ныне был не тот, что прежде.
Царь Петр, отправляя Толстого в Стамбул, заметил: «Ты зубаст, и надобно, говоря с тобой, камень иметь за пазухой, дабы зубы те выбить, коли укусить захочешь». И ошибался. Тогда еще зубы не остры были у Толстого, а ныне вот и впрямь крепкие стали.