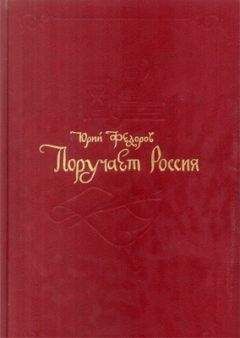Царь Петр, отправляя Толстого в Стамбул, заметил: «Ты зубаст, и надобно, говоря с тобой, камень иметь за пазухой, дабы зубы те выбить, коли укусить захочешь». И ошибался. Тогда еще зубы не остры были у Толстого, а ныне вот и впрямь крепкие стали.
О размышлениях маркиза Дезальера рассказал Петру Андреевичу австрийский посол в Стамбуле Тальман. И хотя слова маркиза он передал Толстому с улыбкой, как шутку забавника-аристократа, и Петр Андреевич не замедлил на то улыбнуться и даже шаркнуть ножкой, однако подумал: «Австрияк отнюдь не для моей пользы это болтает, но свою цель преследует». Петр Андреевич игру Тальмана понял так: Ферриоль толкал турок на войну с Австрией, маркиз ведет их к войне с Россией, а это означает, что, увязнув в российских делах, Османской империи будет не до Австрии. «А это устраивает Тальмана, — подумал Толстой, — и он хочет поссорить меня с Дезальером. Но, глупец, ежели Порта перейдет рубежи Валахии, османская армия подопрет границы Австрии, и так или иначе, но австриякам придется собрать все силы для отражения возможного вторжения. Ах, маркиз! Ах, хитрая голова! Одним ударом хочет убить двух зайцев: связать и Россию, и Австрию… Ну-ну…» И Петр Андреевич еще любезнее ответил на улыбку австрияка. Размыслив, Толстой все же посчитал, что сейчас наиболее опасны для Российской державы не французы с их сложной игрой, затеянной в королевских домах Парижа, Стокгольма, Варшавы и здесь, в султанском дворце в Стамбуле, но шведы и Мазепа. И оказался прав.
Казаки смело ходили по улицам Стамбула, заломив на затылки мерлушковые шапки и звеня шашками. Их пугались. Здесь хорошо помнили дерзкие казачьи набеги на Анатолийское побережье.
Шведы шли к Полтаве.
— Мой король, — сказал барон Гилленкрок, — разве вы намерены осаждать Полтаву?
Разговор происходил в палатке Карла в присутствии советника короля графа Пипера, недавно прискакавшего из Стокгольма. Советник стоял чуть в стороне от говоривших, кусая губы. За час до этого он имел долгий разговор с Карлом. Граф убеждал его отказаться от дальнейшей войны здесь, на Украине. Он рассказал об озабоченности сената, о разговорах и слухах в Швеции, пустой казне и даже о проклятьях, которые шлют на голову короля матери погибших в далекой России солдат. Король, однако, был неумолим.
— Да, Гилленкрок, — ответил Карл генералу, переждав порыв ветра, рвущий верх палатки, — я намерен осаждать Полтаву, и вы должны составить диспозицию и сказать нам заранее, в какой день мы завладеем городом. Так делает Вобан во Франции, а вы здесь — маленький Вобан.
Гилленкрок болезненно взмахнул рукой и дотронулся до виска.
— Я полагаю, — сказал он глухо, — что и Вобан, великий инженер и генерал, увидел бы себя в немалом затруднении, потому что не имел бы под рукой того, что нужно для осады.
Карл ответил с нескрываемым презрением в голосе:
— У нас довольно всего, что может быть нужно против Полтавы. Полтава — крепость ничтожная.
Карлу Пиперу захотелось закричать, застучать каблуком, но он не мог противостоять королю. При всей телесной мощи на это у него не хватало нравственных сил.
Гилленкрок без всякой уверенности возразил Карлу:
— Крепость, конечно, не из сильных, но по многочисленному гарнизону, из четырех тысяч русских, кроме казаков, Полтава не слаба.
На это король ответил:
— Когда русские увидят, что мы хотим атаковать, то после первого выстрела сдадутся все.
Гилленкрок, ища поддержки, оборотился к Пиперу. Но тот — необычайно бледный — только положил руку на горло, словно пытаясь расслабить душивший его ворот. Генерал понял, что поддержки от Пипера не дождется, и вновь повернулся к королю.
— После первого выстрела?.. — Гилленкрок помолчал и, уняв волнение, сказал: — Не вижу и не понимаю, как это может случиться без особенного счастья.
Неосторожно сказанное слово «счастье» подействовало на Карла как шпоры, всаженные в бока лошади.
— Да, счастье! — воскликнул он. — Мы свершим необыкновенное дело и приобретем и славу и честь!
Король проводил генерала и советника до выхода из палатки и, коротко кивнув, резким движением задернул полог.
Дальнейший ход войны был определен, и предвидение Петра Андреевича относительно наибольшей опасности от шведов и Мазепы вполне подтвердилось. Готовясь к броску под Полтаву, шведы начали собирать силы, и в столице Османской империи объявился вслед за казаками гетман Мазепа. Петра Андреевича известили об этом тотчас, а еще через два дня он и сам увидел, во время визита к визирю, изменника гетмана.
Мазепа стоял у фонтана во дворе визирского дворца в окружении поляков и шведов. Лицо его было нездорово темно. Заметив российского посла, он вскинул голову, губы его сломала странная, болезненная улыбка, в которой были и ущемленное самолюбие, и неуемная гордыня, и… страх. Петр Андреевич, головы не повернув, прошагал мимо.
Предатель всегда жалок. И для тех, кого он предал, и даже для тех, на чью сторону он переметнулся. Больше того — он жалок для себя. Человек никогда не живет один и не может жить один. Мнение о нем окружающих значит для него гораздо больше, чем он думает. А предатель знает, что он презираем со всех сторон, и это висит над ним и днем и ночью, как топор.
Петр Андреевич вызнал, что Мазепа был у крымского хана и просил того выступить ордой через Перекоп. Гетман-изменник сулил крымцам дань с Украины, которую они раньше получали от Российской державы, и даже дань от королевства Польского. Крымский хан выказал полную готовность к началу военных действий. Но начать войну без согласия Стамбула он не мог, и вот тут-то мертвой хваткой вцепился и в хана и в Мазепу Петр Андреевич. Да, гетману-изменнику трудно было противостоять послу российскому. За спиной у Толстого была держава, за Мазепой — пустота. Петр Андреевич через верных людей добился того, что силистрийский паша Юсуф написал султану: «Швед есть осажден ото всех сторон от московских войск тако, что невозможно никому выйти и пойти вон никуды в места их… видится во всем бессилии их и худоба как самого короля, так и войска его». Мнение Юсуф-паши было решающим для Дивана. Паша ближе всех стоял к сражающимся русской и шведской армиям, и его лазутчики шныряли по Украине. Это был ход, который не предусмотрел Мазепа. Султан запретил крымскому хану выступить против России. Петр Андреевич мог поздравить себя с новой победой, но посол российский торжествовать не спешил.
Вернувшись от визиря, который заверил, что крымцы хотя и скучают по ясырю — взятке, однако не посмеют переступить через султанское запрещение. Петр Андреевич, пройдя в свою палату, стащил с головы, как шапку, парик и швырнул на стол. Зажег свечу и надолго остановил взгляд на шатком под сквозняками огоньке. Он угадывал: шведы вот-вот будут разбиты и европейские королевские дома тотчас вступят в ожесточенную борьбу, понуждая Порту к войне. «России мира не позволят, — думал Петр Андреевич, — слишком счастлива судьба царя Петра, слишком многого он достиг, укрепившись в Прибалтике». Перед глазами встал любезно раскланивающийся маркиз Дезальер, загадочно улыбающийся австрийский посол Тальман. Свалить Мазепу оказалось не так уж трудно. С этими было сложней.
Военные победы воочию объявляются на полях сражений. За столом дипломатов они не так очевидны и больше того — часто чреваты последствиями, которые на нет сводят затраченные усилия и даже саму кровь солдат. Спешат к победам только генералы. Мужам государственным должно одинаково рассчитывать последствия и побед и поражений.
Петр Андреевич, тиская и сжимая попавшийся под руку парик, неотрывно смотрел на слабый огонек свечи…
Тогда же, в Москве, провожая царя Петра под Полтаву, глава Посольского приказа Гаврила Иванович Головкин сказал:
— Ах, кабы Карл повернул да ушел восвояси. Куда как славно бы сталось…
Петр взглянул на него и промолчал. Он знал: Карл не повернет, королю шведов еще жаждалось побед, грозных атак, порохового дыма. О последствиях он не думал. Ехать было необходимо.
Через два месяца под Полтавой шведская армия была разгромлена наголову. Король Карл, раненный в плечо и ногу, едва спасся, уйдя от погони русских драгун. Гилленкрок бежал вместе с королем, граф Пипер попал в плен. Впереди его ждали заключение в Шлиссельбургской крепости и смерть в одном из ее казематов.
Солдаты царя Петра сделали все, что могли. Теперь в драку надо было вступать послу российскому — Петру Андреевичу Толстому.
Лукавый маркиз своего добился: медлительный Чарлулу Али-паша был смещен и великим визирем назначили Кёпрюлю Нумен-пашу, радевшего об укреплении ислама больше, чем глава церкви — муфтий. С того дня, как Нумен-паша получил власть, у стамбульских муэдзинов похоже прорезались голоса и они много громче прежнего стали восхвалять всевышнего с высот минаретов, а глухие, черные галобеи правоверных удлинились, пожалуй, и ниже пяток. Женщины поверх чадры укутали головы платками, и в святую пятницу в мечетях многократно прибыло число слушающих чтение Корана и толкование сур.