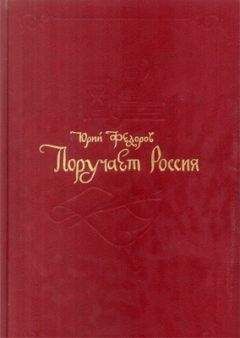Но не только чистота религии занимала нового визиря.
Ныне Карл, разбитый под Полтавой, жил под защитой султана. Ему даже определили кормление. Турки были не очень щедры, но все же содержали короля и его немногочисленный двор. Карл оправился от ран и с неменьшей задиристостью, чем прежде, рвался в бой. Петр Андреевич с тревогой писал в Посольский приказ, что Карл при султанском дворе хвастает, «будто может он вновь иметь изрядного войска больше пятидесяти тысяч», а Мазепа клялся, «будто и Украина вся будет с ними согласна». Но и это было не все, что так тревожило российского посла в Стамбуле.
Разгром шведов под Полтавой круто изменил многое. Станислав Лещинский бежал из Варшавы, и, как птица Феникс, восстал из пепла король Август, неожиданно вспомнивший, что он прозывается Сильным. Больше того: Август припомнил, что он союзник России, и поспешил затеять новую коалицию против битого короля Карла. Август с необыкновенной пышностью въехал в Варшаву и на деньги, полученные от царя Петра, устроил для варшавян гулянье с «возжиганием потешных огней, многими играми и забавами, а такоже с раздачей жареного мяса, полотков и птицы разной». Наибольшее внимание Август уделил восстановлению утраченного великолепия королевского дворца. Станислав Лещинский, несмотря на поспешность, с которой бежал из Варшавы, вывез не только государственную казну, но и все ценное, что было в королевских покоях. На это Август, войдя во дворец и оглядев ободранные стены, с презрением сказал:
— Жалкий человек, но я всегда говорил, что Лещинские жадны и мелочны!
И с широтой, достойной польского короля, не жалея петровских ефимков, распорядился незамедлительно украсить дворец с прежней роскошью. За спиной короля раздался восторженный шепот придворных. Многочисленные дамы, всегда сопровождавшие короля, присели в книксене.
Закончив эти многотрудные дела, Август ускакал в Потсдам, дабы с королем датским и королем прусским заключить конвенцию против столь обидевшего его Карла. И в Городском замке Потсдама, стоящем среди цветущих роз, конвенция была заключена. Царь Петр, несмотря на настоятельные предложения, пока воздержался от участия в сей конвенции.
Решительные действия трех премудрых королей сразу же осложнили и так накаленную обстановку в Стамбуле. Петр Андреевич от верных людей день ото дня получал все больше и больше подтверждений о начавшемся приготовлении Османской империи к войне с Россией. В Стамбуле и других портовых городах по Анатолийскому побережью ускоренно строились боевые фрегаты. Спилиот сообщил Петру Андреевичу о перебросках к российским рубежам военных грузов, иерусалимский патриарх Досифей дал знать об указе султана о призыве под ружье янычар. Да Толстой и сам отмечал грозные признаки приготовления к войне. В письме Гавриле Ивановичу Головкину он писал в эти дни: «Здесь ныне чинятся великие приуготовления воинские с великим поспешанием ни в какую иную сторону, токмо к границам российским».
Бегство Станислава Лещинского из Варшавы и заключенная коалиция трех королей, казалось, удвоили силы маркиза Дезальера. Ныне французский посол уже был недоволен действиями визиря Кёпрюлю Нумен-паши. Да, новый визирь начал приготовления к войне с северным соседом, но и его усилия, как представлялось маркизу Дезальеру, были все же недостаточными. Лука Барка, предостерегая Петра Андреевича, сообщил, что маркиз окружил себя наиболее воинственными янычарами и всячески подогревает настроение вновь сменить визиря и поставить ныне во главе правительства ярого врага России Балтаджи Мехмед-пашу.
Мехмед-пашу Петр Андреевич знал. Тот даже не скрывал неприязни к русским и, встречаясь с российским послом, прикрывал глаза от сжигавшей его ненависти. Говорил, спотыкаясь в словах, так горело у него в груди.
— Ну-ну, — только и сказал Толстой, выслушав Луку Барка. Сидели они в кофейне над бухтой Халич. Петр Андреевич приезжал ныне сюда ежедневно, садился за столик к окну и так проводил долгие часы. В кофейне было малолюдно, и русский посол стал желанным гостем для хозяина. Он, поспешая, ставил перед Толстым медные тарелки с засахаренными фруктами, печеньем, поил шербетами. Но Петра Андреевича не занимали эти угощения, хотя он с годами, проведенными в Стамбуле, и пристрастился к восточным сладостям. Для него наиважнейшим было здесь иное. Из окна кофейни открывался широкий вид на бухту, и перед взором Петра Андреевича как на ладони видны были стоящие у причалов суда, пакгаузы, ведущие к порту дороги. На причалах ни на минуту не стихала лихорадочная суета. Петр Андреевич видел, как грузят пушки, ядра, бочонки с порохом и свинцом, ящики с оружием, загоняют в трюмы лошадей, тяжелоногих мулов, медлительных верблюдов, надменно несущих по-змеиному маленькие головы.
— Что скажешь, — кивнул Петр Андреевич Луке Барка на порт, — а?
Барка долго смотрел на грузящиеся суда, словно стараясь запомнить, сколько их и что несут по сходням на палубы, но наконец отвернулся от окна и взглянул прямо в глаза Толстому.
— Это война, — сказал, — война…
— Война, — подтвердил Толстой, — вижу.
— Чем можно помочь России? — спросил Барка. Толстой помолчал, ответил глухим, без красок, голосом:
— Теперь, наверное, ничем. Одно лишь укрепляет меня, да и тебя должно укреплять, что много лет нам удавалось поддерживать здесь, в Стамбуле, так нужный России мир. Ныне царь Петр крепок. Вот и Карла шведского свалили, а сила была грозная. В той победе и наша доля есть. — Голос его несколько окреп. — Сей же миг полезны можем быть тем, что предостережем Россию о грозящем лихе.
В кофейню вошел чюрбачей. То все топтался на улице с янычарами, но вот вошел. Осмелел, знать. Толстой поглядел на него и как ни в чем не бывало кивнул: садись-де, выпей чашку кофе. Чюрбачей с каменным лицом поклонился, но не сел за стол, повернулся и вышел. И то, что он вошел, и то, что отказался от приглашения, — все было тревожными признаками. Петр Андреевич отхлебнул из чашки, и ему показалось, что кофе горек, как полынь.
На следующий день Петр Андреевич приехал в кофейню над бухтой Халич и увидел, что двери ее закрыты, окна заставлены тяжелыми ставнями. Посольская коляска остановилась, кони, перебирая ногами, били копытами по плоским, истертым камням. «Вот, значит, как, — подумал Толстой, — не напрасно, видать, чюрбачей входил в кофейню. Сообразил гололобый… Так…» Петр Андреевич велел поворачивать коней. Коляска развернулась, едва не задевая стен тесно стоявших в улице домов, и покатила, стуча по камням. Чюрбачей, поднявшись на стременах, пропустил ее вперед и поскакал следом. За ним поспешило с десяток янычар. «Обкладывают меня, обкладывают, — подумал Петр Андреевич, — как волка в буераке». И незнакомое до того ощущение загнанности вдруг объявилось в нем. Петр Андреевич физически почувствовал упершийся в затылок взгляд чюрбачея, и несвобода его — Толстого — в этом чужом, а ныне откровенно враждебном городе, стала вдруг очевидна, как теснота клетки. Это не было страхом, но большим, чем страх, ощущением незащищенности, на которое он никак не мог повлиять. Ничего не изменилось — бежали, пощелкивая копытами, кони, светило солнце, и ветерок обдувал лицо, но в это мгновение Петр Андреевич противно деятельной своей натуре должен был сказать: «Все, я не принадлежу себе, но едино лишь случаю, и этот чюрбачей, что скачет за коляской, может в любую минуту поднять ятаган и ударить меня по затылку. Все будет зависеть от приказа, который он получит». Петр Андреевич знал, что здесь в Стамбуле, коли османы объявляли войну, с послами противной стороны случалось всякое и смерть от удара ятаганом была не худшим исходом. «Ну, вот теперь, — решил он, — я до конца испытал посольскую долю». Ан это было не так — на дне посольской его чаши еще оставалась самая гуща.
Русская армия осаждала Ригу. Царь Петр победителям шведов под Полтавой дал два дня отдыха и тотчас направил и пехоту и конницу в Прибалтику. Командовал армией фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. Спешно проделав многоверстый поход, русские обложили Ригу грозным полукольцом. С присущей ему обстоятельностью Борис Петрович объехал на смирной лошадке — фельдмаршал был не молод и грузен — вокруг осажденной крепости и указал, где и как копать осадные рвы и насыпи для закрытого подхода к стенам, прокладывать траншеи. Тыкал пальцем, украшенным перстнем:
— Здесь, здесь рыть! Здесь.
Офицеры, сопровождавшие фельдмаршала, начали было морщиться: старик, казалось, хотел всю землю перекопать перед крепостью.
Борис Петрович заметил это недовольство и, гневно покраснев, закричал:
— Тот солдат крепости побеждает, кто с лопатой дружен! С лопатой, господа офицеры! Буду проверять, как выполнены указания, и нерадивых наказывать!
Дернул поводья и поскакал к своей палатке, тяжело наваливаясь животом на высокую луку седла.