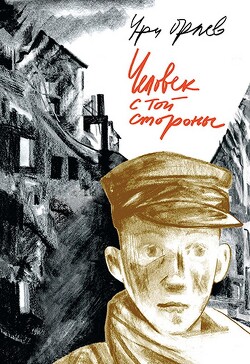class="p1">— Ты когда-нибудь был на берегу моря?
Я никогда не был на море. Из Варшавы туда довольно далеко ехать. Но мама обещала, что мы поедем на море после войны. Иногда я пробовал смотреть на Вислу так, чтобы не видеть противоположную сторону. Чтобы было как на море. Или как в туманный день. Я спросил пана Юзека, но он сказал, что это непохоже. Я помню его слова:
— Река — это река, а море — это море. У каждого своя красота, свой голос, свой запах. Я люблю море, и я люблю Вислу.
Я знаю также, почему эти слова врезались в мою память: до тех пор я никогда не думал, что евреи тоже любят Вислу.
Когда мы шли от моста, он спросил, как меня зовут. Я ответил. И объяснил, что мамина фамилия из-за Антона. А он сказал, что я могу называть его просто Юзек, но, как я уже говорил, фамилии своей не назвал. По сей день не могу понять, почему.
Дедушка сидел, как обычно зимой, внутри комнаты, у закрытой двери. Сидел и смотрел наружу сквозь стекло, которое бабушка перед уходом очистила от морозных узоров. Я никогда не мог понять, в самом ли деле он смотрит. Иногда, когда я подходил к нему, мне казалось, что он вообще никуда не смотрит и ничего не видит, хотя глаза у него открыты. Он сидел, время от времени постукивая своей палкой по полу, так что там уже образовалась вмятина. А иногда рисовал что-то пальцем на двери или на стекле, и его нижняя челюсть отвисала, как у столетнего старика, потому что бабушка, уходя, запирала его зубной протез в шкафу.
Когда мы вошли, он не сразу нас заметил, потому что говорил с кем-то вполголоса. Обычно он говорил со своей старшей сестрой или с одним из своих родителей. Если это была ссора, значит, он говорил с сестрой. Со своей матерью он говорил так, будто она сидит напротив него и он ей что-то рассказывает. Как-то раз я попытался понять его рассказ, но это оказалось невозможно. Сначала он говорил одно вполне логичное предложение, а потом продолжал про что-то совершенно другое. Например, он говорил: «Мама, эти сигареты можно выгодно продать, но этот немец не спускает воду, такой мерзавец». Это были просто куски из разных воспоминаний, которые случайно соединились у него в мозгу.
Когда он говорил со своим отцом, он обращался к нему «пан» или «пан отец». Некоторые люди и сегодня обращаются так к своим отцам.
— Дедушка, доброе утро, — крикнул я, потому что он был вдобавок ко всему немного глуховат.
Я показал ему коробку сардин, и он сразу же встал.
— Бабушка послала, — сказал я.
Мы вдвоем помогли ему добрести к столу и усадили его там. Я боялся, что ему будет холодно, потому что бабушка обычно берегла уголь для зимних вечеров, но в печи еще горели дрова, и в комнате было приятно.
Дедушка даже не обратил внимания на пана Юзека, как будто было само собой понятно, что я приду еще с кем-то. Я повесил плащ и шляпу пана Юзека на вешалку. Антон, когда рассказывал мне что-нибудь плохое о евреях, всегда упоминал, что они сидят дома в шляпах. Но я ему не верил. Правда, наши клиенты, трое братьев из гетто, обычно встречали нас в шляпах, но это было в подвале. Я не мог себе представить, чтобы кто-то зашел в свою или чью-нибудь квартиру и не снял шляпу. Я был уверен, что это одна из выдумок Антона, порожденная его ненавистью к евреям.
Я вынул из буфета полбуханки хлеба и кусок сыра и принес три чашки кислого молока, которое бабушка всегда заквашивала возле печи. Принес тарелки и накрыл на стол. Потом наполнил чайник водой, поставил на печь и подбросил несколько поленьев, чтобы вода быстрее закипела. Дедушка и бабушка не были подключены ни к газу, ни к электричеству. По вечерам они сидели при свете керосиновых ламп или свечей. Бабушка говорила, что не хочет иметь никаких дел с властями. А то еще начнут проверять счетчик и требовать денег. Но сегодня я думаю, что дело было не в деньгах, а в ее связях с подпольем.
Дедушка хотел отломить себе хлеба, но у него дрожали руки. Тогда он положил хлеб и только перекрестился и произнес положенную молитву, а я вынул из тайника ключ от маленького шкафчика и дал ему его зубной протез. И мы сели есть.
Только тут я понял, насколько пан Юзек голоден. Между одним глотком и другим он спросил, почему бабушка запирает дедушкины зубы. Я объяснил ему, что дедушка иногда ложится на кровать и засыпает с протезом во рту, и тогда он может подавиться. А когда он сидит в кресле или на своем стуле у двери, то играет протезом внутри рта, и протез может выпасть и сломаться, и ему нечем будет есть.
Вдруг дедушка застыл с поднятой вилкой в руке. Я надеялся, что это у него не случится и он не опозорит меня перед гостем. Потому что иногда ему случалось забывать, что он сидит за столом и ест, и тогда он вдруг вот так застывал с вилкой или ложкой на полпути ко рту, и все падало на него или на пол. Я быстро взял у него вилку и стал кормить его сам.
— Ты очень хорошо заботишься о своем дедушке, — заметил пан Юзек.
— Да, я привык.
А потом я засмеялся и сказал:
— Знай бабушка, что в ее квартире сидит еврей, она, наверно, протерла бы тут все лизолом.
Может быть, я не должен был это говорить, но я не удержался.
— Так сильно она ненавидит евреев?
— Да, — сказал я.
— И вся твоя семья?
— Не вся. Про дядю, который погиб, я не знаю. Дядя Владислав не ненавидит и не любит. Он просто зарабатывает на евреях. Но не на том, что он их выдает или шантажирует, — я сглотнул, — а на том, что он их прячет, понимаете? Это тот дядя, к которому я ходил сегодня.
— А твоя мама?
— Мама верит, что люди равны перед Богом. И неважно, во что они верят или не верят, как они одеваются и какие у них обычаи. Она вообще всегда говорит противоположное тому, что говорит бабушка.
— А твой отчим?
Я ответил:
— Больше он ненавидит только немцев. И, может быть, коммунистов. Мой отчим думает, что нам самим надо