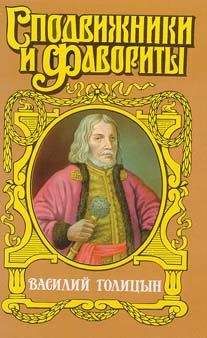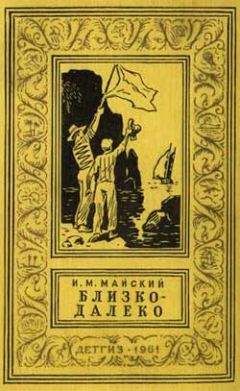Князь думал: я пробудил в царевне женщину. Да еще какую! И теперь поворота назад нету. Он, князь, был на походе несколько месяцев, и Федор его заменил. Что ж, и он, князь, не монашествовал, не единой бабой была у него царевна. Каждый утешался по-своему. Все едино: князь остается в чести у царевны, первым и главным. Федор — мужик добрый, и только. А он князь — муж совета: ей, правительнице, он важней и нужней. Тем более что противный лагерь — царя Петрушки, царицы Натальи и их приверженцев — наступал на пятки.
Как быть? Сила грозная нависала. Надо искать замирения, в лоб их не взять. У царя — живой нрав, он не чета царю Ивану — хилому да недужному. За ним — будущее. Все это он, князь Василий, прозревал и искал способы к замирению. Там, у царицы Натальи, был в большой силе его братец двоюродный — князь Борис Голицын. Всем взял — умен, знатен, богат. Один лишь великий грех за ним водился: бражник был неумеренный. Утонул ввинопитии.
К нему-то и послал ловкого переговорщика дьяка посольского Емелю. Приспело-де время братьям встретиться хоть и тайно, но по-родственному, и о нужном потрактовать. Не может лежать меж ними противность, пора бы договориться о мире. Худой мир, известно, лучше доброй ссоры. Кто кому в секрете пожалует — пусть о том решит брат Борис, он-де, Василий, уступит.
Князь Борис был неуступчив. И хоть Василий втайне полагал, что пожалует он к нему, Оберегателю и вершителю великих посольских дел, звал к себе, в подмосковную свою деревню Дубровицы.
«Поглядишь, каков храм Знамения возведен иждивением моим и великим радением Господу сил. Такого дива еще не видано на Руси», — писал он в цидуле, кою привез дьяк. Неча делать, пришлось-таки уступить. Поехал князь Василий по Серпуховскому тракту в Дубровицы в сопровождении всего четырех людей — двух посольских да двух дворовых.
Встретились, обнялись, облобызались — все ж таки родная голицынская кровь.
— Пойдем сначала грехи свои замолим, — предложил князь Борис. — Немало их за нами Господь считает. А уж потом возлием за свидание. Как ты мыслишь?
— Ровно с тобою, братец, — отвечал князь Василий. Оба были благодушно настроены — давненько не видались.
Храм Знамения был еще не достроен. Тщеславный, как все Голицыны, князь Борис вознамерился удивить свет. А для того призвал итальянских зодчих, кои славились на весь крещеный мир своим искусством и на Москве Кремль и хоромы кремлевские возводили — не сами, разумеется, а руками русских работных людей. И они дубровицкий храм Знамения начертали. А крепостные мастера по белому мячковскому камню резали диковинные цветы да листы, да и сами итальянцы работали теслом, выводя затейливое узорочье, равно и вытесывая статуи пророков. Диво это было увенчано не луковицею, но короной с крестом.
Помолились без усердия — торопились к столу. Да и иконостас еще не был готов, и в храме наводили художество. Латынью было выведено: «Беати пацифици квониам филин деи вокабунтур» — «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими».
Князь Борис самодовольно молвил:
— Евангелие от Матфея в чистом виде.
— Что ж ты, братец, в православном-то храме латынь развел? — укорял его князь Василий. — Я-то, сам знаешь, с нею, с латынью, возрос, но до такого бы не додумался.
— А я желаю, чтоб у меня все было по-иноземному. Я, может, папе Бонифацию обет дал, — со смешком закончил Борис.
— Да, у нас с тобою все с Русью несходно, — согласился князь Василий. — Мы вперед глядим, а бояре наши — назад, в старину. Так что давай и впредь глядеть вперед. Станем миротворцами — как уместно это изречение евангелиста Матфея — и да будут наречены сынами Божьими.
— Эх, брат Василий, хорошо мы сидим, — сказал князь Борис за пиршественным столом. — Будь здоров и удачлив. Больно плохо ты навоевал, народу множество положил, казну издержал и все занапрасно.
Князь Василий вздохнул. Ему очень не хотелось оправдываться, но, видно, брат ждал оправданий. И он нехотя процедил:
— Счастие, брат, птица верткая да капризная. Будь ты на моем месте, тоже поворотил бы назад. Но вспомни, что говорили древние: «Фортуна белли артем виктос квовве дофж» — «Судьба учит военному искусству даже побежденных». Во второй-то раз я уж не просчитаюсь.
— Неужели ты задумал вдругорядь?
— Сам ведаешь: коли татар не побить, они всему христианскому миру пагубу нести будут.
— Так-то оно так, но ведь мы великий урон терпим — в людях да в казне.
— Татарва больший урон нам наносит. Сие гадючье гнездо надобно разорить до конца. И я решился на то.
— Дай-то Бог, дай-то Бог! — торопливо произнес князь Борис и опрокинул чарку. — За твой успех, братец, выпил, за твою викторию. Токмо тяжкой это воз. Свезешь ли?
— Свезу! — уверенно ответил князь Василий. — Надобно свезти. Вон и поляки подрядились помочь.
— О, братец, ты на ляхов не полагайся — они лихи на язык. Много ты их видел в походе? Вот то-то же. Сулиться они горазды. Хвастуны!
— Не говори, братец. Король Ян Собеский — великий воин.
— Великий воин в штаны наклал в княжестве Молдавском. От турок.
— Все едино, они мир блюдут, и им татарове то и дело разор чинят. Да что там говорить — Орда всему христианству великий и непрестанный враг. Святое дело ее разорить, угодное Господу.
— Ладно. Стой на своем. Давай выпьем за здравие моего племянника Петруши, даря. Люблю его — ум и сила, все угодья в нем. Чего отставил чару — пей!
Князь Василий неохотно взялся за тонкую ножку серебряной чарки.
— Эге ж! А я обещаю тебе выпить потом за здравие царя Ивана. Сочтемся. Пей же!
Князь Василий выпил, едва не поперхнувшись.
— Нехорошо, братец, — укорил его князь Борис. — Мы с тобою станем трактовать о замирении — ты для сего ко мне приехал. Так что будем уважать друг друга: ты — Петрушу, а я — Ивана с Софьей. Ты, как я понимаю, за нее держишься, яко ейный галант…
— Не только, — сдержанно отвечал князь Василий. — Она — великий политик, она — правительница.
— Недолго ей в правительницах-то оставаться, сам понимаешь. А царь Иван — не жилец на свете, это ты тоже понимаешь. Рассуди: что далее? А то, что мой Петруша единовластным государем станет. И тогда все его противники полетят вверх тормашками. Вот ты говоришь, что царевна — великий политик. А все то ведают, что она твоим умом правит.
— Советы подаю, — неохотно согласился князь Василий. — Однако же Софья и своим умом крепка.
— Вот ты давеча сказал, что мы с тобою люди будущего и вперед глядим. Но сам-то ты куда глядишь? Ни у царя Ивана, ни у Софьи будущего нету. Что скажешь на это?
Князь Василий медлил с ответом. Он разглядывал на свет хрустальный бокал с заморским вином. Оно было тяжелого рубинового цвета и, казалось, само светилось. Потом он поставил бокал и нехотя признался:
— Твоя правда, братец. Все это я сознаю и приехал искать замирения. Сказано ведь, — и он снова перешел на латынь, — лучше и надежнее верный мир, чем ожидаемая победа.
— Но у нас с вами верного мира быть не может. И ежели ты умен и глядишь вперед, то это видишь.
— Так оно. Но можно ль мне оставить царевну! — вырвалось у князя Василия.
— Либо пусть пьет, либо пусть уходит, — латынь так латынь. Выбирай, братец, пока есть еще время. Скоро его не станет. А тогда, впрочем, что тогда ты наверняка прозреваешь.
— Прозреваю, — покачал головой князь Василий. — Неужто нету тропы к замирению? Я ведь за этим и приехал к тебе, брат Борис. Долгонько ехал. Посоветовал бы ты царю Петруше — он небось твоим советам внемлет.
— Оперился птенчик, — хохотнул князь Борис. Он уж был сильно навеселе. — Взмахнул крыльями и полетел. И уж летит без оглядки. Да, братец, Петруша ноне себе на уме. Совет-то он выслушает, а поступит по-своему.
— Ты бы замолвил за меня слово.
— Он тебя, братец, на дух не выносит. Думаешь, я за тебя не вступался? Еще как. Толковал ему, что ты-де муж ума государственного, что тебе подобных по учености более нету. И что? Отвечает: пущай ученый, пущай ума палата, а предался врагам моим и жду от него козней. А царевну, сестрицу свою, он и видеть не хотел бы. Так ведь она бесстыдно суется всюду. Ей, говорит, место в тереме либо в монастыре.
— Таково непреклонен?
— Да, брат Василий.
— А ежели мы ему поклонимся?
— Да гнется ли у тебя выя? А у нее, у царевны?
Помолчали. Наконец князь Василий заговорил — горячо, убежденно, как умел, когда приспевала нужда:
— Думаешь, я не понимаю, что за ним, за Петром, будущее? Я его провижу не хуже всех вас, может, даже лучше. Но ведь мир-то надобен не токмо за пределами государства, но, прежде всего внутри его, мир и согласие. Понимает ли этот царь Петр? Боюсь, что нет, — молод еще. А без нашей стороны мира и согласия не жди.
— Все-то он понимает. Разумен не по летам. Но тверд и упрям. Его не перекоришь, коли упрется.