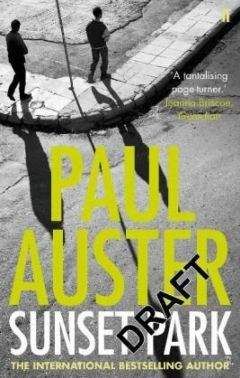С первого взгляда Иуда почувствовал духовное родство с ним – оба они родились под знаком Льва.
– Примипул[43] Серторий, мое имя Неарх. Я привел тебе своего раба – целителя, лучшего в этой стране! – поклонившись, сказал грек на своем родном языке.
– Да не обделит тебя благосклонностью богиня счастья Фелица, доблестный велит, за быстрый отклик на мой зов! А я лично возблагодарю тебя, если твой врач спасет моего сына! Приступай, лекарь! – скомандовал Серторий на койне.
– Что с ним случилось? – спросил Иуда на том же наречии.
– Разве ты не видишь?! Он задохнулся! Делай что-нибудь, не болтай, раб!
– Как могу я врачевать, не зная причин его болезни, того, как его лечили до моего прихода?! Поэтому замолчи, сотник, не трать попусту мое время! Эй, кто-нибудь может сказать, как и от чего этот эфеб потерял дыхание?
Из толпы вытолкнули трясущегося от страха пожилого человека, под глазом которого расплывался здоровенный синяк. Он представился ветеринаром Гратом, который был вынужден взяться за лечение Лонгина, так как настоящих врачей и хирургов-цирюльников у римлян не осталось. (Позднее Иуда узнал, что часть зелотов во главе с неистребимым Иешуа бар Ионафаном прорвалась через римский строй к вражескому обозу, перерезала всех возничих и лекарей, большинство ветеринаров и больных легионеров и ушла в горы.)
В конце битвы декурион Лонгин получил сильный удар по голове и потерял сознание. Очнулся к вечеру, его тошнило, он не мог даже стоять из-за сильного головокружения. Грат дал ему вина с маковым отваром, и пациент уснул. На рассвете его разбудили. Голова все еще кружилась. После выхода Гелиоса на середину небосклона больного накормили, снова дали вина и уложили на спину. Ни с того ни с сего у него началась рвота, потом он стал задыхаться.
Несчастный ветеринар, и без того не знавший, что делать, был страшно затерроризирован Серторием и сам, казалось, собирался вот-вот отдать свою душу Плутону.
Иуда преклонил колени перед Лонгином, понюхал его рот. Потянуло кислым запахом блевотины. Поднес медное зеркальце сначала к губам юноши, потом к своим глазам – ни следа тумана от дыхания. Пощупал пульс на шее – не чувствуется. Глаза закатились, лицо багрово-синюшное, на шлепки и оклики не реагирует.
– Твой сын уже не дышит, – с неожиданным для себя сочувствием сказал он Серторию, который серостью лика напоминал гипсовую статую. И, смущаясь собственной жалостливости, добавил: – Он захлебнулся своей рвотой. Нельзя было поить его вином и класть на спину... Лицо центуриона обрело цвет снега: любимое чадо погибло позорной смертью закоренелого пьяницы! В порыве отчаяния он схватил зелота за плечи и сжал, как тисками:
– Неарх сказал, что ты – самый великий целитель в Иудее! Ты его слов не опроверг, значит, это правда! Сделай что-нибудь! Клянусь Фидес[44], если спасешь Лонгина, я выкуплю тебя за любые деньги и отпущу на волю!
Животворным оазисом для заблудившегося в пустыне верблюжьего каравана, долгожданным огнем маяка для потерявшейся в море триремы – вот чем внезапно стал для Гавлонита лежащий перед ним бездыханный молодой римлянин. Был врагом – сделался якорем спасения. Адонаи дарит Галилеянину возможность вынуть выю из рабского ярма. Саваоф, бог воинств, не дал убить Лонгина в сече, позволил демонам болезней овладеть его телом прямо на глазах Иуды – значит, Всевышний указывает вождю «ганна'им» выход из западни! Надо только применить свое искусство целителя, свою магию!
Странно, что орудиями воли Своей Господь избрал не правоверных, а двух необрезанных италиков, сына и отца. Хотя, если бы не приверженность к язычеству, их можно посчитать вполне достойными мужами... Особенно Сертория, столь рьяно пекущегося о своем ребенке-Ребенке?
Ребенке!!
Вот оно, долгожданное откровение, знамение Творца!
Иуда вспомнил чудо пророка Елисея: воскрешение чада Санамитянки из мертвых.
«И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу.
И поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, простерся на нем, и согрелось тело ребенка.
И встал и прошел по горнице взад и вперед; потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои» (4 Цар. 4:32—35).
Лекарю-ремесленнику пришел на смену великий целитель-маг Иуда Ишкариот. Волшебник вдруг стал как бы выше ростом, очи его прояснились, стан выпрямился, голос приобрел властность.
– Доблестный Серторий! Твой сын получил удар по голове, его дух ослаб, и в тело вошел демон, вызывающий тошноту. Ему надо было поститься несколько дней, пить только воду, в жару лежать в тени, ночью – в тепле. Вместо этого ему дали вина с опием, покормили и вынесли на солнце, да еще не успели перевернуть на живот во время начавшейся рвоты. Блевотина попала Лонгину в дыхательное горло, а может, и в легкие. С нечистой массой вошли новые бесы, кои перекрыли дыхание. Он не дышит уже несколько минут, а значит, умер... Ты хочешь от меня великого чуда, и я попробую его сотворить. Если мне поможет Бог отцов моих, твое чадо вернется к жизни. Однако не изумляйся ничему, что я буду делать, и, главное, не мешай! Коли же я не преуспею – не обессудь!
Волхв прервал свой монолог, закрыл глаза и на миг задумался.
Демоны угнездились в рвотной массе и заблокировали вход воздуха в легкие Лонгина. Это очень похоже на то, что происходит с утопленником, только там бесы прячутся в воде. Гавлониту уже приходилось откачивать утонувших рыбаков на Геннисаретском озере. Правда, сначала из них вытряхивали воду...
Блевотина не такая уж плотная, это густая жидкость с кусочками плохо пережеванной пищи. Значит, надо сперва освободить дыхательное горло мертвеца от разжиженной смеси. А уж потом оживлять...
Он повернулся к Серторию, стоявшему рядом неподвижно, как соляной столб, в который некогда превратилась жена патриарха Лота.
– Помоги мне, сотник!
Вдвоем они подняли бесчувственное тело, перевернули на живот, согнули пополам в пояснице и уложили Иуде через плечо.
– Демон Бано, покинь легкие отрока сего! Приказываю тебе мощью Адонаи, который позволяет тебе ходить по свету! – произнес заклинание маг и начал с трудом подпрыгивать, немилосердно тряся Лонгина, пока изо рта покойника не вылилась грязная, с кровяными сгустками, слизью, размокшими кусочками пшеничного хлеба, какими-то ошметками жижа. Вокруг воцарился хаос: кого-то рвало, кто-то упал в обморок. Серторий шатался, словно кедр под порывами самума.
Удостоверившись, что легкие и трахея Лонгина больше ничем не заполнены, Иуда уложил его на спину, лег на него сверху, положил ладони на бездыханную грудь.
– Открой ему рот пальцами и не давай сомкнуться! – скомандовал он центуриону. Тот повиновался без возражений.
Иуда помолился Яхве – очень быстро, всего несколько мгновений, и выкрикнул череду заклинаний:
– Демон Латойменисефей[45], не сдерживай более дыхание больного сего! Демон всей телесной плоти, Энтолей, верни жизнь его плоти! Демон вен, Ипуснобода, демон артерий, Бинеборин, не препятствуйте току крови! Повелеваю вам властью Вседержителя!
И, набрав полную грудь воздуха, стал вдувать свою жизненную силу в открытое горло мертвеца, превозмогая брезгливость, борясь со рвотой, ибо пахло оттуда, как из выгребной ямы.
Семь раз заклял демонов волшебник, семь вдохов сделал покойнику – и все же не почувствовал оживления в лежащем под ним теле. Надежда на спасение от рабства начала уплывать, недостижимая, как облако в небе...
На грани отчаяния Иуда взмолился:
– Господи, если уготовил Ты мне иную жатву, угодную Тебе, убери Ангела Смерти, верного слугу Твоего, отсюда!
Затем прохрипел последнее оставшееся у него в запасе заклятие:
– Демон Агромаума, отпусти сердце юноши сего, позволь ему биться!
Привстав на трупе, сложенными вместе кулаками ударил Лонгина в область сердца. Послышался хруст ребер – и два стона.
Первым застонал Лонгин – и пришел в себя.
Вслед за ним застонал Серторий – и лишился чувств.
Легионеры вокруг попадали на колени.
Иуда встал с молодого человека, посмотрел, как тот заходится в кашле. Отошел, шатаясь, на два шага – и согнулся в приступе неудержимой рвоты. Римляне шарахались от него, как от чумного, но смотрели благоговейно, как на чудотворца...
Когда Иуда пришел в себя и выпрямился, то обнаружил, что стал центром широкого круга, образованного чуть ли не целой когортой легионеров. На лицах у всех явственно читались изумление и священный страх.
У его ног лежал воскресший сын Сертория: все еще окрашенный в цвета крови, но уже не в багровый оттенок заката, а в алый – зари. Он дышал так, как дышит ныряльщик. Нет! Он пил воздух, как пьют воду гонцы, пробежавшие под солнцем тысячи стадий, с жадностью и неверием, что дожил до такого счастья, и никак не мог утолить свою жажду...