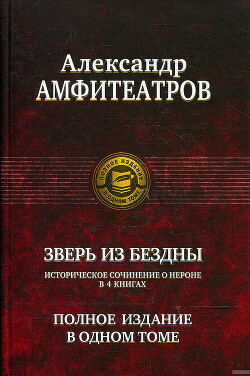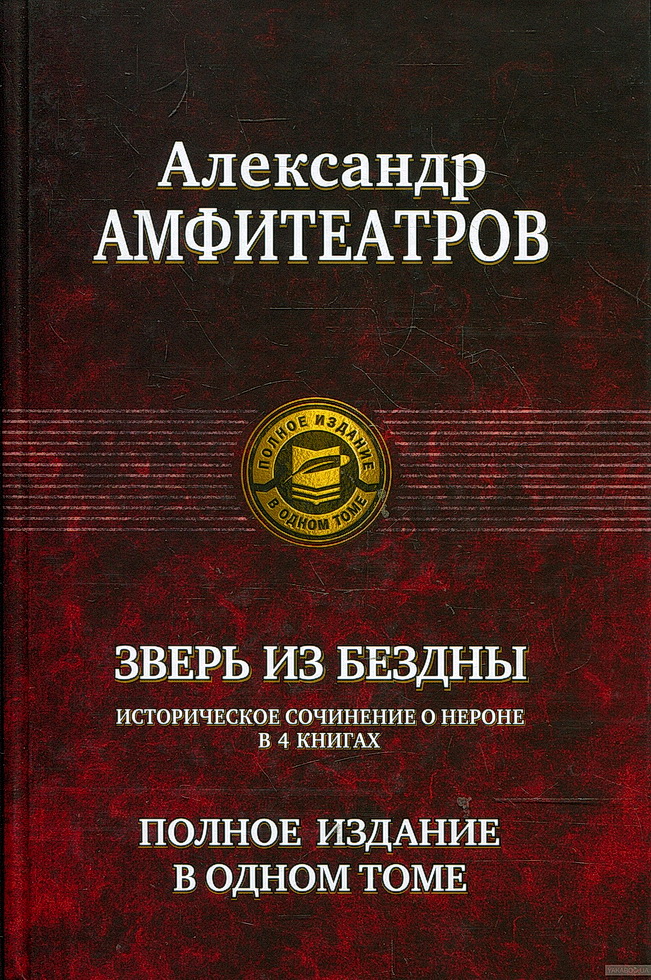Представителем противоположного мнения, кроме неоднократно упомянутого Латур С. Ибара, является во Франции — Дюрюи: «Риторы и поэты, которых искусство в том и состоит, чтобы заполнять живыми действующими лицами обстоятельства темные или тайные, не задумались обвинять Нерона, увлеченные фантастическим великолепием — вообразить государя, который сжег свою столицу для того, чтобы выстроить новую по своему вкусу, разрушить все воспоминания о древнем Риме, чтобы наполнить новый Рим памятью о себе... Мы рады были бы подарить поэтам этот, праздник Вавилонского соблазна и приписать это преступление Нерону. Но вся эта трагедия скорби и позора — вымысел нашего века. Рим, без сомнения, ее не знал». Мнение Дюрюи, конечно, разделяют, в большей или меньшей степени, и другие историки-империалисты Франции, порожденные эпохою Наполеона III, интерес которого к римскому цезаризму энергически двинул вперед изучение века Юлио-Клавдианской династии. Ведь именно Наполеону III мы обязаны раскопками Пьетро Розы, приведшими Палатин в состояние, как мы теперь его находим» (Иордан).
Гораздо мягче относятся к вопросу о Нероне — поджигателе немцы и, во главе их, известный своей апологией Нерона, Герман Шиллер. Начать с того, что он считает преувеличенными сами размеры пожара. Действительно, в древнем христианском апокрифе, содержащем мнимую переписку Сенеки с ап. Павлом, потери от пожара указаны всего в 132 дома и 4.000 квартир (insulae). Цифра эта нравится Шиллеру и Иордану, автору «Топографии Рима», но Фридлендер почитает ее плодом невежества подделывателя переписки. Для сравнения, он ссылается на цифры потерь при лондонском пожаре 2 сентября 1665 года, когда огонь, свирепствуя пять дней и ночей, уничтожил более 13.000 домов, 89 церквей и множество других общественных зданий. Римский пожар, продолжаясь даже лишь двумя днями дольше, конечно, не мог принести вреда городу почти во сто раз менее. Гильберт считает допустимым показание Тацита, что из 14 частей городов только четыре остались пощажены огнем, а три части пожар сравнял с землей, но полагает преувеличенным Тацитово утверждение, будто еще от семи частей уцелели лишь жалкие руины.
Много основательнее другое положение Шиллера: что если не построить всего события на диком капризе совершенно сумасшедшего человека, нашедшего себе, надо прибавить, и целые сотни, если не тысячи, таких же совершенно сумасшедших сообщников, — то причины, побудившие Нерона сжечь Рим, становятся окончательно неуяснимыми. Твердо установленное alibi цезаря в первый день пожара и неохотное, медленное (что бы ни говорил Латур С. Ибар, защищающий Нерона и в этой подробности обвиненная) возвращение из Анциума в Рим, лишают всякого вероятия мысль, что он желал полюбоваться спектаклем пылающей столицы. Кто интересуется спектаклем, тому нет смысла уезжать из театра как раз перед первым действием и возвращаться лишь к финалу трагедии. Сиверс именно медлительности появления Нерона на театре действия приписывает недовольство народа, привыкшего, в моменты прежних подобных бедствий, видеть своих цезарей вместе с собой: Друз, сын Тиберия, лично тушил пожар во главе преторианской команды, Клавдий, во время двухдневного пожара в Эмилианской части (Monte Pincio), ни на минуту не покинул места бедствия, пока опасность для города не миновала. Не рассматривая этого предположения, одинаково возможного и невозможного, как всякое другое без документов, скажу лишь, что у Тацита фраза о долгом пребывании Нерона в Анциуме звучит, конечно, явной жалобой. Зато после пожара, а, может быть, и во время его (Tac. Ann. XV. 60), Нерон вел себя безукоризненно. Нельзя и сравнить его поведения с бездушным безразличием к народному бедствию, которое явил, в подобных же ужасных обстоятельствах, наш Иван IV в московский пожар 1547 года. Убытки от пожара, обездолившие такую массу людей, легли очень тяжело на личную казну императора, и вряд ли мог он вознаградить себя раскопками пожарища. Ведь ему пришлось принять весьма долгие и дорогие меры, чтобы прокормить и обстроить десятки, сотни тысяч людей, оставшихся без крова и пищи. Даже историк, столь изыскательный к «просвещенному абсолютизму» цезарей, как Гиббон, согласен, что римское правительство сделало все, от него зависящее, чтобы смягчить последствия столь страшного общественного бедствия. Цезарь отдал в распоряжение пострадавших Марсово поле, монументы Агриппы (т. е. термы его имени, Пантеон и т. д.) и свои собственные сады, на скорую руку выстроены были за счет императора временные бараки; чтобы меблировать их и снабдить утварью, опустошены были склады и магазины Остии и ближайших муниципий. Цены на хлеб были понижены до трех сестерциев за модий, т.е. до 15 копеек за 8 3/4 литра (2,669 гарнца). Словом, по-видимому, самая великодушная политика диктовала в это время эдикты цезаря, и, если глухая молва продолжала твердить, что он — поджигатель, то слагалась она не из фактических данных, но из психологических гипотез, руководимых чьею-то ловкой враждебной пропагандой, которая, избрав необычайно удобный момент, била почти что наверняка, и надо только изумляться, что она, все-таки, промахнулась. В способности на какое преступление не решитесь вы подозревать человека, умертвившего своих жену и мать? В готовности на какое бешеное сумасбродство откажете вы государю, публично срамящему и свое человеческое достоинство, и свой священный сан на цирковой арене, на театральных подмостках? Когда общество в отчаянии, оно легче всего хватается именно за самые неправдоподобные, фантастические слухи, и молва об императоре-поджигателе должна была столь же придтись ему по сердцу, как молва об императоре, который «не царский сын, а немкин подменок», пущенная в темные массы раскола о Петре I, которого наша «старая вера» почитала, а иные секты почитают и сейчас, антихристом, подобно тому, как первые христиане почитали антихристом Нерона. А еще — к случаю пришлась вторичная вспышка пожара во владениях Тигеллина. Почему именно Тигеллина? — работает воображение взволнованных масс: Тигеллин — правая рука цезаря... это не спроста! Тут — приказ государя, тут — дворцовый заговор на поджог!... В действительности, как справедливо замечает Латур С. Ибар, если бы Нерон с Тигеллином были в поджоге при чем-нибудь, то пожар никогда не возобновился бы с Тигеллинова дворца — именно, во избежание возможности подтвердить злые слухи, о которых громадная тайная полиция Тигеллина не могла не знать. Вообще, если допустить участие Нерона в преступлении, то все оно принимает окраску совершенно невероятно наглой откровенности. Это изумляло еще первых историков, которые в поджог поверили. «Incendii urbem tar palam, ut etc.», — говорит Светоний.
Вспоминают, что Нерон — чуть не прирожденный пироман: что страсть к огню он проявлял еще в детстве, охотно играя со сверстниками в «пожар Трои»; что он включил в репертуар своих игр «Incendium», старинную комедию Афрания, только потому, что в ней, по ходу действия, представлялось разграбление дома, охваченного пожаром. Обвиняющие толкования придавались ходячим по городу афоризмам и mots Нерона, свидетельствующим лишь о беспредельной глубине его эстетического эгоизма, о себялюбии, наивном до пошлости, об откровенном до наглости моральном нигилизме, но теперь, для болезненно настороженной подозрительности римлян, превратившимися в целые практические программы сознательного и убежденного злодейства. Кто-то цитировал когда-то при Нероне стих из Эврипидова «Беллерофонта», обратившийся в поговорку, очень любимую покойным цезарем Каем: Έμού υανόντοξ γατα μίϰυήτω πυοι (По смерти моей — пусть огонь пожрет землю!). Нерон возразил:
— О, нет! Да свершится так еще при жизни моей (έμου ξωντοζ)!
— И вот теперь именно он и устроил себе то, о чем мечтал! — прибавляла суеверная молва, нашедшая отголосок в словах Светония: planeque ita fecit.
Любитель исключительных и трагических положений, Нерон любит щеголять декадентскими фразами вроде:
— О, счастливец Приам! ты испытал блаженство видеть собственными глазами одновременную гибель своего царства и своего рода.