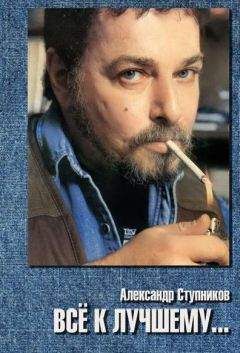Недалеко от остановки стояли автоматы с газированной водой. Работающие. Те самые, что утоляли жажду всей страны, по три копейки за лимонад. Стаканы, не на проволоке от краж, оказались на месте.
Я оглянулся на пустую улицу и под летнюю сладкую тишину бросил монетку. Техника ухнула, заурчала, но мою уже протянутую руку неожиданно взял кто-то сбоку. Не резко, не грубо. Но взял. Как овчарка, не сжимая зубы.
Непонятно, откуда они появились. Никого же и близко не было. Дядька с легким пузеньчиком, домашний, в спортивном костюме, словно из подъезда пошел мусор выносить, доброжелательно, но прямо в глаза, буднично сказал:
– Пройдемте.
Я оглянулся. Напротив нас, у тротуара, стояла машина с открытой задней дверью и двумя молодыми людьми. Холодными, как глаза гончей псины.
– Хорошо. Но сначала дайте допью…
Он подождал. Парни зажали меня с двух сторон на заднем сиденье и куда-то повезли. Как оказалось, в милицейский участок на вокзале. Сумку обыскали, но в ней ничего уже не было. В блокноте тоже никаких лишних записей, только много адресов и телефонов, без сортировки. К тому же два нужных мне местных адреса я запомнил еще в Москве.
– Ого, – восхищенно сказал старший, когда, вывернув карманы, на стол легли четыреста рублей. – Хорошо у вас направляют в командировку.
– Какую? Заехал в древний город, Волгу посмотреть.
– И что, посмотрели?
– Вы же не дали.
– А кто здесь из знакомых есть?
– Вот, к профессору Ковнеру сходил в гости.
Бессмысленно было ломать дурочку, когда взяли сразу после визита.
– А откуда знаете друг друга?
– Так и он, и я – «отказники».
– И у кого еще были?
– Больше никого в городе не знаю. Приехал утром на денек проветриться. Кремль посмотреть.
– А где билет, если утром?
Формально это был не допрос. Никаких протоколов не вели и не грубили.
– А зачем мне его хранить? Была бы командировка, как вы сказали, был бы и документ, чтоб отчитаться. А так не перед кем.
– Пошли, – устало закончил старший. – Мы сейчас возьмем вам обратный билет в Москву.
Он посмотрел на крепкую пачку рублей на столе.
– Из ваших денег. И проводим, как родного.
– Могли бы купить из своих, – обнаглел я. – Город-то я так и не увидел.
– Поговори еще…
До ближайшего поезда было часов пять. Все это время мы с ним сидели в зале ожидания. Одного из его парней я видел неподалеку. Иногда мы выходили на улицу, но со стороны перрона, уже в глубокую ночь, покурить. Спать все равно не хотелось.
– Дернетесь, только хуже будет, – предупредил он. – По месту жительства сообщим, что в вашем городе слишком шустрые ребята живут. Займутся.
– И правильно, сообщите. Наоборот, напишите им, что дергался. Зачем я им такой нужен? И мне, и им не надо. Пусть отпустят скорее.
В вагон они со мной не заходили.
– Смотри, – неожиданно сменил тон старший. – Если посчитаешь себя самым умным, пересядешь в другой поезд и вернешься назад, то…
– То что?
– Ноги переломаем.
Я притормозил.
– Зубы важнее.
– Это почему?
– А как улыбаться?
Один человек мне сказал, что любит жизнь.
– А кто не любит? – ответил я и подумал: «Но не всем нравится жить в этой жизни…».
(УКРАИНА, 1983)
Один человек мне сказал, что нет в жизни счастья.
– А где есть? – спросил я и застыдился.
В нашей камере было тепло и мерзко. Маленькое окошко почти под потолком выходило в никуда. В будущее. Шконка, или общие нары, похожие на деревянную эстраду в сельском клубе, располагали к воздержанию. А скупой модернистский интерьер оживлял только ржавый унитаз за бетонной перегородкой да вечный огонь придушенной «лампочки Ильича» над железной дверью с амбразурой запечатанной «кормушки».
Это был мой первый опыт пребывания в местах не столь отдаленных от тех, кто так думает. Точнее, почти второй.
В своей стране – кто кому считает?
В армии, незадолго до дембеля, я бегал в самоволки на саратовское радио и делал там сюжеты для молодежного вещания. Это было заскорузлое время и удивительные люди, которые пришедшему с улицы солдату в засаленной стройбатовской гимнастерке, бывшему студенту, в тот же день выдали магнитофон «репортер» и отправили на задание.
Я переодевался у штатских знакомых, делал запись и, возвращаясь через давно не девственный забор в казарму, прямо с магнитофона ночью расшифровывал и писал тексты. А утром, по дороге на работу, кто-то из ребят автороты, даже личный водитель комбата, забрасывал «репортер» на проходную телерадиокомитета.
В конце концов, со временем обнаглев, я поучаствовал в телевизионной передаче, на чем и попался какому-то бдительному зрителю из штаба части. И загремел на гарнизонную гауптвахту.
– Мы не потерпим «дедовщину», – возмутился застарелый старший лейтенант Лукинский, замполит по прозвищу Триппер. Тот самый, что сказал мне, просмотрев личное дело:
– Мы, в серых шинелях, вас, интеллигентов, всегда задавим.
– А нам на вас всегда будет наплевать, – буркнул я и немедленно отправился чистить батальонный сортир.
– Кто-то должен это делать, – напутствовал нас перед строем замполит, вдохновляя на трассу строить им железную дорогу. – Кто-то должен это делать. Почему, если не вы?
У Триппера не ладилась ни личная жизнь, ни продвижение по службе.
Женщины и солдаты его боялись, а он ненавидел империализм.
И получал за это деньги. По должности. И еще – за звание.
Так платят тем, кто не работает, но есть.
На гауптвахте меня, как родного, приняли караульные курсанты военного училища, и я сразу попросился в одиночную камеру.
– Хочу побыть один, а то почти два года все люди вокруг да люди. Надоело…
Такого у них не было. Но и у меня тоже.
Чревато путать камеру с персональным бунгало.
Одиночка оказалась мрачным узким бетонным мешком без нар с единственным грибовидным стулом, железным и холодным.
Как генерал без трусов.
– Сам напросился, – кричала проводница поезда Воркута-Москва моему попутчику-шахтеру, когда он, в романтическом подпитии, ночью сходил к ней как бы за чаем и потом, утолив себя сполна, не захотел расплачиваться, как договаривались.
Обещал полтинник, а в темноте подсунул двадцатку. Думал, и так хватит. Оскорбленная такой безнравственностью проводница отлупила его полотенцем.
– За всех обманутых женщин, – кричала она, но деньги выбила.
В камере выхода тоже не было. Кроме меня самого. А это бесплатно.
Я лег на бетон и стал согреваться видениями скорого возвращения домой, просыпаясь от холода и придумывая все новые и сложные по конструкции горячие мурзилки. Мне хотелось исполнить свой солдатский долг со всеми женщинами одновременно, но взаимностью отвечала только одна Родина.
И то не туда.
Это была самая сексуальная ночь в моей жизни.
На «губе» я пробыл тогда всего семь суток, поскольку попал под всеобщую амнистию, приуроченную к очередной годовщине Великой Октябрьской интернационал-социалистической революции.
Но пять лет спустя, на гражданке, суток было уже пятнадцать. Достаточное время, чтобы подумать о своем месте на шконке этого мира.
Помогли немцы.
Трое их патриотов из города Камышин, где-то в Поволжье, никак не могли воссоединиться со своим историческим «фатерляндом». А очень хотели. Они колотились, где могли, составляли петиции, знакомились с другими такими же неуемными и даже писали, отморозки, историю немцев Поволжья.
Оно мне надо?
Где я? А где немцы?
Но я знал в Москве корреспондента газеты «Зюдойче цайтунг» и подвизался его с ними познакомить. А вдруг интервью поможет, когда о ребятах узнают там, в бундесе?
Это было душное время пожухлой травы и верующих атеистов, которые принимали, не спрашивая о ночлеге.
И приезжали, не договариваясь, за три недели. И легко сходились, слушая друг друга.
И вместе блуждали в тумане невысказанности и значимости полуночного словоблудия.
А потом приходило утро или человек в форме.
На пустынном перроне малорослого провинциального вокзала, тихого, как просветленные глаза умалишенного, за пять минут до прибытия московского поезда из ниоткуда возникли милиционеры и попросили показать документы.
Если к вам подходит орган правопорядка, значит вы его чем-то возбудили.
– Это не к добру, – вздохнула как-то уборщица тетя Маша, услышав по телевизору о падении индекса Доу Джонса на Нью-Йоркской бирже:
– Он у них падает и падает.
Старший наряда, почему-то майор и рыжий, положил мой паспорт к себе в карман и сказал заветное «пройдемте».
Ребята уехали от греха подальше, а я вскоре нашел себя в общей камере местного изолятора. Наутро, покатавшись в милицейском «бобике», мне показали казенную комнату с тревожными зелеными стенами, где тетка, назвавшаяся судьей, объявила приговор в пятнадцать суток за хулиганство.