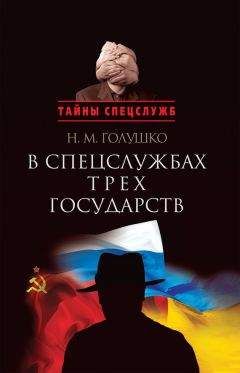— Вот давай только сегодня без панихид! Пару часов только о хорошем, мужики,
только о хорошем. И так на душе мат перемат стоит.
— Главное фрицев погнали.
— Стоим опять.
— Так как резервы покоцали? Сейчас, погоди немного, пару дней и как ломанем до
самого Берлина.
— Ох, Петя, все б так просто было! Ломанем-то ломанем, но немец не дурак,
занятое отдавать. Выбивать каждый клочок из его пасти придется.
— И выбьем!
— Выбьем! Давайте за то, чтобы сгнили эти гады на нашей земле! Чтоб так по
зубам получили, что веками помнили! — поднял очередную кружку Федоров.
Все выпили и опять загалдели, обсуждая планы, потери, предполагая дальнейшие
события, а Мила все сидела и смотрела на Санина. Тот косился на нее, но все
больше делал вид, что слушает товарищей. Что она хотела, понять было несложно,
сложно было объяснить ей, что ничего он ей дать не сможет.
— За погибших, — подняла она кружку и в упор уставилась на капитана. — И не
долюбивших.
А вот это зря. Кружка дрогнула в руке Николая, взгляд на минуту остекленел —
Лена…
Выпил, а на закуску папиросу закурил.
Все затихли, думая о своем, вспоминая семью, погибших друзей и товарищей.
Тоскливо стало.
Шульгин помялся и встал:
— Пойду.
— К Свете? — усмехнулась с долей непонятного злорадства Мила. Капитан смущенно
крякнул и вышел.
— Что-то против Светы имеешь? — спросил ее Николай. Та папиросу из пачки
Николая взяла, закурила:
— А что ей капитан, если полковники есть?
— Ох, и язва ты, — протянул Ефим.
— Я не язва, — дернулась Осипова. — Просто вам, мужикам поражаюсь. Вроде
сильные, защитники, воины, а в некоторых вопросах дети. Даже хуже.
Грызов на Санина посмотрел: понял Коля, в чей огород камень? Тому без него ясно,
и развивать тему не хотел, но Милу понесло. Наболело видно и наружу просилось.
— Нет, ты мне скажи, Грызов, что вам мужчинам от женщины нужно? Какие такие
достоинства привлекают? Смазливость? Фигура, там? А как верность, любовь? Это в
расчет не берется?
— У вас баб, сегодня один на уме, завтра другой, — заявил Федоров, разливая
остатки спирта по кружкам.
— А у вас? Ты на себя-то смотрел?
— Нуу, завелась, — протянул Грызов, выпил и кивнул. — Пойду.
Разбегался народ от «злободневной» темы. Мила не могла этого не заметить, и все
равно продолжала развивать тему, спорить с Федоровым, единственным, кто держался
до последнего.
Николай просто ушел. Сел на топчан в углу и взял гитару, что добыл в немецком
блиндаже Ефим, да подарил командиру. Сумятин рядом пристроился, глядя, как
капитан струны перебирает. Знал, видел, что в настроении Санин спеть. И тот
затянул тихо, пронзительно:
— "Зачарованна, заколдованная, в поле с ветром когда-то обвенчана.
Ты и боль моя, и любовь моя драгоценная ты моя женщина".
Спорщики смолкли, развернулись к капитану, вслушиваясь в слова песни.
Осипова голову опустила, закурила опять, чувствуя себя лишней. Она понимала, что
Николай поет не о ней и не для нее, и было оттого невыносимо больно. Чтобы она
не делала, меж ними всегда, как монолитная стена, стоял образ этой незнакомой
ненужной мертвой женщины. Мила бы поняла, будь она живая, но погибшая? Как с
такими спорить? Как отодвигать? Как выгонять из души и сердца?
Струны гитары смолкли, Николай замер, глядя перед собой. Ему виделась Лена,
смущенно, в тайне поглядывающая на него на перроне Московского вокзала. Синева
ее наивных, чистых глаз, пушистые ресницы, губы нежные, по-детски пухлые.
— Чьи стихи? — спросил Ефим и Николай очнулся, только понял, что невольно
улыбается. Посерьезнел:
— Есенин.
— Так он же запрещен, — бросила Осипова.
— Да? Но я же его не читаю, а пою. И музыка не моя — курсант один, еще в
академии, пел. Мне понравилось, запомнил.
Убрал гитару. Подошел к столу, допил свою порцию и закурил, глядя в открытую
дверь из землянки.
— Знаешь, Мила, нельзя мерить всех одним аршином. Женщины бывают разные, и
мужчины бывают разные. Как люди — все мы отличны, неодинаковы.
— Тебе идеал попался? — не скрыла своего раздражения и злости лейтенант.
Коля развернулся к ней, прислонился к косяку плечом, и, помолчав, ответил:
— Нет.
Он не мог ей доступно растолковать то, что и сам-то не понимал.
Странно все было. И отношение к Лене странное. Его привязанность к ней была выше
понимания, выше любой попытки найти причину и следствие. Да и была ли это
привязанность? Там, тогда не думалось, после отодвигалось, а сейчас вдруг со
всей ясностью пришло одно, единственное объяснение — любовь.
Наверное, только это могло объяснить, почему Лена будто вросла в него корнями, и
живет в его душе каждый день, каждый час. Наверное, только так можно было понято
то, что образ девушки не мерк, не уходил. Да он и помыслить не мог ее забыть.
Это было равносильно перестать дышать.
— Я люблю ее, — сказал.
Вышло просто и обыденно, а в душе было так не просто и так необычно. И было
безумно жаль, что эти простые и ясные слова он не смог сказать живой и уже не
сможет.
Если б тот молодой, амбициозный лейтенант был немного умней на деле, а не в
своем воображении…
— Но она мертва! — закричала женщина, понимая, что он жестоко и окончательно
лишает ее всякой надежды, не просто вычеркивает и отталкивает — уничтожает,
давит, как сапогом гусеницу, причем, не замечая, что Мила совсем не она.
— Не для меня, — бросил Санин и отвернулся от Осиповой. Вновь уставился в
дверной проем.
Тихо стало. Мужчины переглянулись и, кивнув Николаю ушли, а Мила так и осталась
сидеть будто приморозило — потерянная, расстроенная и растерянная.
— Так не бывает. Ты все равно забудешь ее, — прошептала, уверяя скорее себя.
Санин не стал спорить о том, чего не знает:
— Может быть.
А это уже была надежда.
Женщина приободрилась. Встала напротив него, руки на груди сложила:
— Я готова ждать. Я готова забыть гордость и признаться тебе, что давно, как
только увидела тебя, люблю…
— Не надо, — отбросил щелчком окурок капитан.
— Что не надо? — нахмурилась Осипова.
— Ни любить, ни гордость забывать.
У Милы руки опустились:
— Почему ты такой трудный?
— Обычный. Просто мы разные с тобой. Абсолютно.
— Ну и что?
— Ничего.
Действительно — ничего — ни в глубь, ни вширь.
Коля оглядел ее — красивая, но чужая.
— Тебе пора.
— Проводишь?
Мужчина улыбнулся, пряча взгляд — хорошая уловка, но глупая — ничего не значащая.
Связисты жили буквально в двух шагах от штаба.
— Почему нет?
Вышли на свежий воздух и заметили переминающегося у березки бойца. Молоденький,
максимум шестнадцать лет:
— Уберешься там, Миша, хорошо? Если из штаба свяжутся, позовешь. Я здесь.
Паренек кивнул и пошел в землянку, а Мила посмотрела на капитана:
— Ординарец?
— Да. Мальчишка совсем. Прибился к Ефиму и не уходил. Убьют, жалко. Вот я и
взял его к себе.
— Жалостливый ты. Мальчика пожалел, а меня? Неужели ничуть?
Коля молчал, посчитав вопрос риторическим.
— Тяжелый ты человек, капитан, — сказала понуро. Повернулась к нему у избы,
где связисты располагались и девочки из санбата отдыхали. — А скажи мне, какая
она? — спросила вдруг.
Коля задумчиво посмотрел в темноту и пожал плачами: не объяснить не в двух
словах, ни в десяти. Но даже если сподобится, это будет что-то значить только
для него.
— Может, ты ее себе выдумал? — прошептала, потянувшись к нему, словно
надеялась — так и есть. Все это бравада, а любит он ее, и сейчас обнимет,
поцелует.
— Спасибо за вечер. Спокойной ночи, — сказал Николай и пошел к себе.
Мила ревела навзрыд, мяла и била кулаками подушку.