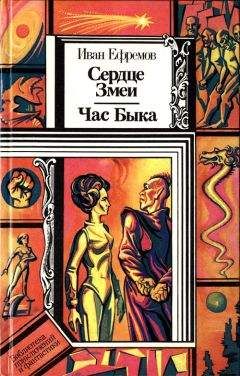– А ты, Мерира, что думаешь, чему усмехаешься?
– Думаю, государь, что ты хорошо говоришь, но не все. Бог не только мир.
Он говорил медленно, с усильем, как будто думал о чем-то другом.
– А что же еще? – помог ему царь.
– Еще война.
– Что ты говоришь, мой друг? Война – не Бог, а дьявол.
– Нет, и Бог. Две стороны треугольника сходятся в одном острие: день и ночь, милость и гнев, мир и война, Сын и Отец – все противоборства в Боге…
– Сын против Отца? – спросил царь, и рука его, сжимавшая ручку кресла, чуть-чуть дрогнула.
Мерира поднял на него глаза и усмехнулся так, что Дио подумала: «Сумасшедший!» Но он тотчас опустил их снова, и лицо его окаменело, отяжелело каменной тяжестью.
– Что ты меня спрашиваешь? – ответил он спокойно. – Ты лучше моего знаешь все, Уаэнра: сыну ли не знать Отца? Бог – мера всего. Не тебе говорю, а людям: меры ищите во всем – меры мира и меры меча.
– Истинно так! Истинно так! – воскликнул Рамоз. – Я тебя, Мерира, не люблю, а за это слово в ножки поклонился бы: мера мира и мера меча, – лучше не скажешь.
– Что же тебе в этом понравилось так? – удивился царь, взглянув на Рамоза. – Он говорит очень страшное…
– Да, страшное, да нужное, – ответил Рамоз. – Анкэммаат, В-правде-живущий, правду ты хочешь вознести до неба и расширить по земле; но слабы люди, глупы и злы. Будь же милостив к ним, государь, не требуй от них слишком многого. Лесенку подставь – взлезут, а скажешь: летите – полетят в яму. Милостью одной не проживешь: милость-то наша всем злодеям углаживает путь. Много говорим, мало делаем, а верь старику: нет ничего на свете злее добрых слов пустых, нет ничего подлее благородных слов пустых…
– Это ты обо мне, Рамоз? – спросил царь с доброй улыбкой.
– Нет, Уаэнра, не о тебе, а о тех, кто чуда от тебя требует, а сам для чуда и пальцем не двинет. Двадцать лет правдой служил я царю, отцу твоему, и тебе; никогда не лгал и теперь не солгу. Худо, очень худо делается по всей земле твоей, государь! «Мир», говорим, а вот, меч; говорим «любовь», и вот, ненависть; говорим «свет», и вот, тьма…
Грузно встал, повалился в ноги царю и заплакал:
– Сжалься, государь, помилуй! Спаси себя, спаси Египет, подыми за правду меч! А если не хочешь, так и я не хочу видеть, как губишь себя и царство свое. Отпусти меня, старика, на покой!
Царь наклонился к нему, поднял его, обнял и поцеловал в уста.
– Нет, мой друг, не отпущу, да ты и сам не уйдешь – любишь меня… Потерпи немного, теперь уж недолго, я скоро сам уйду, – шепнул ему на ухо.
– Куда уйдешь? Куда уйдешь? – спросил Рамоз с вещим ужасом.
– Молчи, не спрашивай, скоро все узнаешь! – ответил царь и встал, давая знать, что Совет кончен.
Выйдя из палаты Совета, пошли на Двор Нищих. Царь велел сановникам идти вперед, а сам замедлил шаг, чтобы остаться наедине с Дио. Минуя ряд покоев, вошли в маленький тепличный садик, где фимиамные деревья в глиняных кадках, привезенные из несказанно далекого Пунта, Страны богов, подобные огромным, паутинно-тонким верескам, точили в солнечном угреве янтарные слезы смолы.
Царь сел на скамью и долго сидел молча, не двигаясь, как будто забыв о присутствии Дио. Вдруг взглянул на нее и сказал:
– Стыд! Стыд! Стыд! Полно тебе смотреть на мой стыд, уходи!
Дио стала перед ним на колени.
– Нет, государь, я от тебя не уйду. Жив Господь, жива душа моя, куда бы ни пошел царь мой, на стыд или честь, там будет и раба его!
– Стыд мой один ты уже видела, увидишь сейчас и другой. Пойдем, – сказал царь, вставая.
Вошли во Двор Нищих.
Трижды в году – в половодье, сев и жатву – ворота дворца открывались для всех: всякий бедняк мог входить свободно, сказав имя свое страженачальнику Маху. На дворе расставлены были поставцы с хлебом, с мясом, пивом: всякий мог есть и пить вволю. Тут же принимались царем прошения и жалобы.
В первые годы царствования праздники эти бывали чаще. «Каждый девятый день месяца будет днем нищих, – сказано было в царском указе. – Областеначальники должны раздавать в этот день хлеб голодным из царских житниц, ибо вопль несчастных до неба дошел, и сердце наше терзается».
«Бог богатых – Амон, бог бедных – Атон, – проповедовал царь. – Горе вам, сытые, горе, богатые, приобретающие дом к дому и поле к полю, так что другим не остается места на земле! Руки ваши полны крови. Омойтесь, очиститесь, научитесь делать добро. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Будьте хлебом голодных, водою жаждущих, ризой нагих, кровлей бездомных, улыбкой плачущих. Узы ярма развяжите и отпустите рабов на свободу: тогда свет ваш взойдет во тьме и мрак ваш будет как полдень!
– Анкэммаат, В-правде-живущий, – говорили царю ученики его, – ты уравняешь бедных с богатыми, сотрешь межи полей, как стирает их половодье реки. Ты – множество Нилов, затопляющих землю водами любви неисчерпаемой!
Царь изобрел опасную игру – кидать золото нищим – огонь в солому. Долго спасал от беды страженачальник Маху: набирал надежных людей из дворцовой челяди, наряжал их нищими, обещал смирным дележ поровну, а буйным – плеть, и все обходилось благополучно. Царь был близорук, с высоты Горнего места, откуда кидал он в толпу золотые колечки-денежки, не узнавал лиц внизу.
Но кто-то донес на Маху. Царь сильно разгневался, едва не прогнал его со службы, и пришлось-таки в следующий раз пустить уже не ряженых нищих. Тогда случилась беда: только что посыпался золотой дождь, как люди озверели, сделалась свалка, и целый отряд воинов, с оружьем в руках, едва усмирил толпу. Трое убитых и много раненых осталось на месте. Царь заболел от горя. Золотой дождь прекратился, только раздача хлеба и прием жалоб остались.
Двор Нищих был обширный четырехугольник, мощенный алебастровыми плитами, окруженный столпными ходами в два яруса. На одном конце его было Горнее место – царская скиния. К ней вела широкая, отлогая, тоже алебастровая, лестница. На челе скинии парила белоголовая, с красно-чешуйчатым телом, с золотым кольцом, царской державой, в когтях, богиня Ястребиха, Нехтэб, Солнце-Мать. «Как утешает кого-либо мать, так утешу я вас», – говорил царь, сын Солнца, скорбным детям земли.
– Ниц! Ниц! Ниц! Царь идет! Бог идет! – возгласили скороходы-вестники, и вся толпа на дворе пала ниц, восклицая:
– Радуйся, Радость-Солнца, Ахенатон!
Кроме нищих и просителей были тут больные, слепые, хромые, увечные, потому что люди верили, что всякий, кто прикасался к одежде царя или на кого падала только тень от него, получал исцеленье.
– Заступи, спаси, помилуй, господи! – вопили к нему люди, как узники ада – к богу, нисшедшему в ад.
Царь, взойдя по лестнице в скинию, сел на престол. Дио стала за ним с опахалом.
Стража впускала просителей в узкий проход между двумя каменными стенками у подножья лестницы. Два нубийских воина с мечами наголо охраняли дверцу посередине стенки, ближайшей к лестнице. Каждый проситель, подойдя к дверце, падал ниц, нюхал землю, клал деревянную или глиняную дощечку с прошеньем на нижнюю ступень лестницы, где нагромоздилась их уже целая куча, и проходил дальше.
Во двор пускали всех, а в этот ход к подножью царской скинии – только по особым пропускам. Страженачальник Маху наблюдал за всем.
Вдруг произошло смятенье. Кто-то, подойдя к дверце, хотел в нее войти. Воины скрестили пред ним мечи, но тот лез прямо на них и, протягивая руки к царю, вопил так, как будто его уже резали:
– Заступи, спаси, помилуй, Радость-Солнца!
Не смея заколоть человека на глазах у царя, воины подняли мечи, и, весь распластавшись, извиваясь ужом, тот прополз под ними и начал ползти вверх по лестнице.
Маху кинулся к нему и схватил его за шиворот. Но он вывернулся, выскользнул из рук его и продолжал ползти и вопить к царю.
Маху подал знак телохранителям-копейщикам, стоявшим в два ряда по ступеням лестницы. Те сомкнули ряды и опустили копья. Но ползший полз и на них.
В то же мгновенье раздался неистовый крик:
– Пусти! Пусти! Пусти!
Так странен был этот крик, визжащий, захлебывающийся, как у маленьких детей в родимчике или у женщин-кликуш, что Дио не сразу поняла, что это кричит царь. Вскочив с искривленным лицом, быстро топал он ногами, как давеча девочки, игравшие в жмурки под молотильную песенку. И все звенел, звенел неистовый крик:
– Пусти! Пусти! Пусти!
Маху снова подал знак телохранителям, и те расступились, подняли копья. Ползший прополз между ними почти до верхней площадки лестницы, где стояла царская скиния. Поднял голову, и Дио узнала рыжие длинные кудри, рыжую козлиную бороду, оттопыренные уши, крючковатый нос, толстые губы и горячий блеск глаз Иссахара, сына Хамуилова.
Царь затих и, наклонившись, смотрел ему прямо в глаза пристальным, как будто жадным, взором, а тот в глаза царю – таким же взором.
– Тайное слово есть у раба твоего до тебя, государь! – прошептал Иссахар.
– Говори, я слушаю.