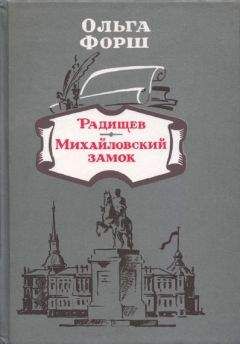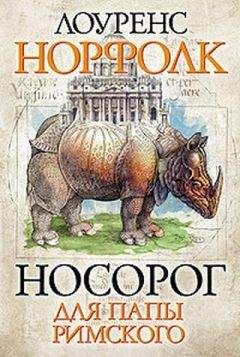«А масляных фонарей на весь город значится 3400. Масла же на них потребляется на семнадцать тысяч ежегодно».
Уже четыре года прошло, как Радищев с Кутузовым вернулись в Петербург, окончив Лейпцигский университет. И сколь много прожито! Да и сами совсем уже не те.
Тепличные растения, на сколь жестокую родину они попали! Что знали они там истинного за границей? Военачальники сухопутные и морские, посланные из столицы на театр военных действий супротив Турции, подбодряли самих себя, рассказывали сплошь о викториях. Знаменитый «Наказ» государыни овеян был духом Монтескье и Беккариа, хвалою которым полны были лекции профессора Гоммеля.
Правда, проникали через иностранных переплетчиков и другие, осудительные слухи, из которых понять можно было, что «Наказ» наказом, а справедливость — свищи.
Но о всех ужасах крепостного права, о вновь прикрепленных, об умученных заводских лейпцигские студенты не знали.
Будучи по приезде в Петербург определены в «сенатские протоколисты», о сих ужасах узнали вплотную из первоисточника, составляя экстракты дел.
Когда-то в юности, пажами ее величества, оба друга делали тоже «экстракты» эрмитажных пьес. И сейчас небось в архиве театра хранится афиша с объявлением, что экстракт сделал: le Sr Radichoff.
Для облегчения догадливости зрителей своими словами, вкратце, предлагалось пажам изложить содержание драмы, комедии и нах-пьесы. Теперь, определенные в сенат, они то же самое делали для облегчения мозгов почтенных сановников. Занятие скучное и нелегкое. В полторы недели надлежало сделать обстоятельную, но краткую вытяжку из многотомного сложного дела.
— Хуже корпусной лозы мне докучные наши экстракты, — вырвалось как-то у Кутузова, а старший протоколист Матвеев, брюзжа, проскрипел: «Сии экстракты суть великое милосердие, а не докука. Вот работали б при монархине Елисавет Петровне! Пустое дело о выгонах города Мосальска одним своим чтением заняло шесть недель заседаний сената. То-то же».
Опять в Петербурге поселились Радищев с Кутузовым в одной комнате. Как в Лейпциге зловредная грубость Бокума, объединило их одинаковое чувство отчужденности от обидных обычаев приказных.
Близкие по привязанности, различные по умственной склонности, друзья продолжали образовательную линию лейпцигского кружка: Кутузов переводил Клопштока, Радищев — Мабли.
Образовательная линия — одно, а душевное расположение у друзей пошло на различный манер. Кутузов состоял в своем земном теле непрочно, как гость некоей иной планеты, Радищев по земле ступал всей ногой, как хозяин, и тело у него было крепко сбитое, сильное. Кутузову, болевшему животом и лихорадками, фехтование, танцы, верховая езда не были любезны, как другу.
У Радищева случались попойки и кутежи, — захлестывало. Забывал уважение к «храму духа своего», рекомендованное вождем юности Ушаковым. Ну что же, грешил. Но после кутежа встряхивался, садился свеж за работу. Раскаяние, коему предавался Кутузов после малейшей фривольности, допущенной в его строгую жизнь аскета, было Радищеву чуждо. Вторично не совершать — да. Но повторять и вновь каяться — сие для слабодушных.
«Раскаяние, страх и надежда — величайшие враги крепости сил человека».
Сию цитату в те учебные годы вымолвил он, лейпцигский Антиной, гуляя как-то вдоль аллеи Розенталя с неизменным приятелем Беришем чуть впереди Радищева. Тогда сентенция сильно смутила, как противная христианскому духу и общепринятому кодексу добрых нравов. Но сейчас она же стоит руководством при создании себя человеком и гражданином наподобие Спарты.
И вот, нужно же, так случилось — не уберегся Радищев со своей книжной мудростью.
Радищев попал в хитрые сети некоей персоны и ныне утратил драгоценную свободу чувств.
Попал без любви, без особого очарования воли, как попадается пустая барынька, из одного любопытства.
Радищев не заметил, как вовлечен был в роман с женой своего начальника графа Брюса, с самой ближайшей подругой императрицы, Прасковьей Александровной.
Немолодая, с лицом изменчивым, еще миловидным, похожим на Грезов портрет, она знала все тайны улыбок. Глаза у Брюсши были чуть-чуть раскосы, носик толстоват. Умна же была необыкновенно. Образование у нее было редкое, не в пример прочим барынькам, тупоразвратным, готовым от скуки «валяться» с кем ни попало.
Уже одно то, что в библиотеке Брюсши были все новые заграничные книги, побудило Радищева искать от нее приглашений.
Однако роман вышел с Брюсшей нерадостный. И вернее: не роман это был — фехтовальный велся поединок.
С душой иссушенной, Брюсша ощущала усладу производить разорение цельности чужих чувств и твердости оных.
Руссо с его юным пламенем был ей нестерпим. Серьезность Радищева в вопросе сочувствия вольности, переходящей границы разумного, ее беспокоила.
Намедни крупно поспорили из-за приема, оказанного во дворце философу Дидро.
Как мальчишке экзаменатором, предложено было императрицей философу исполнить письменное испытание на тему: каким бы желал он увидеть правление в здешней стране.
Когда великий старец, юношески сохранивший весь пламень чувств, представил своевольные мысли на сей предмет, он всего-навсего одарен был для обратного отъезда во Францию весьма теплой шубой. А для осрамления перед раболепным двором — ханжески-иронической сентенцией:
— Вы правите, Дени Первый, на бумаге, а я, Екатерина Вторая, — живыми людьми.
Радищев негодовал, Брюсша защищала коронованного друга, цинично перекрывая чистоту и пламень Дидро удобными афоризмами придворной мудрости.
И всегда в спорах Брюсша была увертливой, с готовой цитатой, с хитростью опыта, с душой, непоколебимой в холоде чувств. Там, где Радищев бушевал, где он искал истину, эта светская умница, давно ничему ровно не веря, хотела только виктории персональной. И наружно она ее получала легко.
Радищев был не совсем красноречив, не быстр, за слова ответственен, как человек, преданный мысли, а не жажде успеха.
Брюсша торжествовала, в то же время не упуская умело польстить. Ко всему прочему, она искренне любила Александра, как любят последнюю весну потушенных чувств.
Радищев уходил из салона Брюсши в раздражении. Так школьник уходит от фокусника-ловкача: пораженный его искусством, но в то же время знающий, что во всем им увиденном скрыт какой-то обман.
Эти беспокойные отношения усугублялись любовными чарами.
Брюсша хвастала, что она купно с Като́ — возрожденные в наш век египетская Клеопатра и Мессалина. В практику любовную она вносила опыт всех стран.
Радищев уходил от Брюсши опустошенный и не однажды решал: сие в самый последний раз.
Но приходил посланный с раздушенным billet doux,[70] или сам граф Брюс на службе, в порядке почти военной дисциплины, рапортовал:
— От Прасковьи Александровны вы нонче прошены на беседу.
И Радищев, не желая идти, шел.
Однако с недавнего времени явилось некое серьезное противопоставление Брюсше — прелестная Аннет Рубановская.
С ее родным дядей Андреем вместе учились в Лейпциге. Правда, в те годы особой дружбы с ним не было. Тяжкодум, как барсук в норе, сидел он за книгами.
Будучи менее способен, чем товарищи, Андрей по четырнадцати часов в сутки долбил курс, в развлечениях и спорах ничуть не участвовал.
И немало изумилась, помирая от смеха, вся русская колония, когда пришлось ей прикидывать на пальцах, как успел Андрей изыскать время, чтобы обрюхатить одну немецкую фрейлейн. Обиженная спохватилась явиться с материальной претензией в общежитие студентов.
Целый месяц пути из Лейпцига в Петербург друзья проводили в соседстве Андрея.
Он возбудил в них немалое любопытство, хвастая двумя взрослыми племянницами, первыми среди смолянок.
Лизанька, старшая, не столь авантажна: лицо ее было тронуто оспой, но сценический талант выше всяких похвал. Сама императрица оценила ее игру, назвав «лучшей мадам Крупильяк».
Младшая, Аннет, по словам юного дядюшки, была просто мечта! При дворе находили в ней сходство с предрафаэлевой чьей-то мадонной…
Радищев встретил Аннет у Херасковых. Это были дни его первого тщеславного головокружения от внимания, оказанного ему Брюсшей. По этой причине достоинства Аннет ему отметились холодно. Однако девица все же запомнилась.
И все вышло к лучшему: не испытывая особой заинтересованности ею, Радищев с Аннет разговаривал не слишком-то модно, а с братски участливой простотой.
Без усилий конфузливая Аннет с полной доверчивостью расположилась к товарищу своего дяди.
Не таясь, она рассказывала ему, что мать докучает ей выйти замуж этой зимой непременно за кого-нибудь из видных придворных, чтобы включенной быть в свиту двора. Ее с этой целью вывозят на большие балы. Между тем Аннет прочла «Элоизу», и жизнь при дворе ей претила.