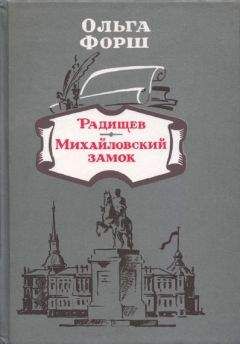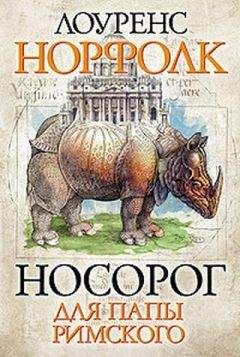Не таясь, она рассказывала ему, что мать докучает ей выйти замуж этой зимой непременно за кого-нибудь из видных придворных, чтобы включенной быть в свиту двора. Ее с этой целью вывозят на большие балы. Между тем Аннет прочла «Элоизу», и жизнь при дворе ей претила.
Как-то компанией, где был и Радищев, ездили пикником на Петровский остров. Гуляли в рощах, катались на рябиках по Неве.
Рябиками назывались гребные речные суда, они были одеты богатою позолотой и, на пример венецийских гондол, над головами имели зонты.
Рябик пристал к берегу, и компания затеяла беготню на лужайке. Радищев с Аннет «горели» в одной паре.
Розовое закатное небо стояло легко над водой. Трава была яркой зелени. Аннет, запыхавшись от бега, кинулась на скамью, роняя шелковый свой эшарп, который Радищев подобрал и укутал им смехотворно свою голову.
— Вот на этом острове я хотела бы иметь небольшое шале,[71] — сказала в мечтании Аннет, — или в крайности хоть хижину. И я хотела б жить тут в полном согласии с природой… Ежедневно я бы отмечала восход и закат. Не правда ли, Александр, какие чудесные и разные бывают закаты? Восход же я до сих пор не видала… — невинно призналась она.
— Но ранее чем мечтать о хижине, вам, любезная Аннет, не мешало бы приискать себе милого сердцу, дабы в ней с ним испытать обещанный пословицей «рай», — смеялся Радищев.
— А ежели милый сердцу уже найден? — вопросом ответила Аннет. И, оставив эшарп в руках спутника, вся зардевшись, убежала.
Радищеву стало интересно узнать, кто сей милый сердцу Аннет. К удивлению своему, он принужден был отметить, что далек от безразличия в сем вопросе.
Сегодня Аннет обещалась петь у Херасковых. Он еще не слыхал ее пения. Строгий учитель-итальянец впервые дозволил Аннет выступление при публике.
Радищев внезапно почувствовал, как должна волноваться Аннет, и, решив не ждать общего сборного часа, заторопился к Херасковым. Он сообразил, что и Аннет должна сегодня пораньше прийти, чтобы испробовать звучность рояля и спеть под аккомпанемент жены Хераскова, Елизаветы Васильевны.
Радищев ускорил шаги и чуть не попал под копыта четверки, внезапно появившейся из-за угла. Шесть лейб-казаков, красавцев, неотделимых от своих лошадей, сопровождали карету царицы.
Сквозь стекло, под упавшим лучом фонаря, Радищеву мелькнули два профиля: хищный, с подбородком императоров Рима, с мертвым стеклянным глазом, принадлежал новому генерал-адъютанту Потемкину; другой профиль, его дополняющий, как на юбилейной медали символа власти, — профиль Екатерины.
За пролетевшей каретой императрицы сверкнул золотом на голубом лаковом фоне герб графа Брюса.
Прасковья Александровна, дальнозоркая, без лорнета увидала Радищева. В заднее окошечко постучав, запяточному лакею дала какой-то приказ.
Лошади остановились, роя копытами землю. Лакей доложил Радищеву, что графиня просит его пожаловать к ней в карету.
Радищев с подавленным неудовольствием принужден был войти, согнувшись высоким станом, в тесную роскошную клетку. Стены простеганы были модным капитонэ нежного абрикосового шелка, с пуговками из перламутра. Графиня в карете была не одна. По тому, как она поздоровалась, чуть улыбнувшись изгибчатым ртом, изобразив линией губ лук амура, понять можно было, что она в свой эрмитаж заставит войти.
«А к Херасковым придется попасть под самый конец! Будет ли ждать его Аннет со своим пением?»
В карете рядом с Брюсшей сидела особо нарядная дама. В полумраке, не разгоняемом слабым отсветом фонарей, личико дамы, маленькое и миловидное, показалось Радищеву принадлежащим мохнатой медведице.
Перед дворцом Елагина даму приняли на руки два выбежавших гайдука. Они внесли ее бережно, как ребенка, в колоннаду передней. Там уже стоял, приветствуя ее появление, довольно тучный, в обтянутом шелке кафтана и белых чулках, украшенный звездами и регалиями, сам кабинет-секретарь Иван Перфильич Елагин.
В руках он держал целый куст белых роз из собственной оранжереи.
— Любопытно мне знать, кто была незнакомая глухонемая? — осведомился Радищев, когда карета довольно отъехала.
— Бесовскими чарами обладающая Гарбиэльша-певица. Свое безмолвие она искупает пением на сцене. Впрочем, не всегда Габриэльша безмолвствует, — засмеялась Прасковья Александровна. — Когда недавно в Италии ее запросили, за какую же сумму она будет петь в Петербурге, Габриэльша назначила столь несусветно, что ведший переговоры воскликнул: «У нашей императрицы первые сановники берут меньше!» На это предерзостно Габриэльша ответила: «Вот пусть и будет предложено вашим сановникам пропеть мои арии». Какова? Но Като любит дерзости… сие разуметь надо — в известной лишь мере, — подчеркнула голосом Брюсша. — Словом, был выдан приказ сюда выписать Габриэльшу… Но вы меня не слушаете, Alexandre, вы, я вижу, не в духе? Конечно, торопитесь на вечер к Херасковым?
— Почему же конечно?
— Потому что вам не терпится блеснуть только что вышедшей книгой Мабли, о коей я уже слышала, но ее обладанием похвастаться не могу.
— Время настоящее в сем случае надлежит заменить вам давно прошедшим. — И с любезным поклоном Радищев поднес Брюсше свой томик Мабли.
— Заготовлено, чаятельно, не для меня, ибо не имеется мне дедикаса,[72] — развернула книгу Брюсша.
Она поджала пухлые губы, отчего черная налепленная мушка продвинулась, как живая, и Радищев вовремя удержался предложить ей смахнуть скорее букана со щеки…
— Отсутствие дедикаса, сударь, — окончательный предлог, чтобы вам оказаться мною похищену, хоть бы на краткий срок.
Радищев поклонился вторично. Подъехали. Приняв из кареты свою даму, он легко подвел ее к львам подъезда.
Особые покои, где Брюсша принимала своих собственных гостей, в отличие от палат общих и парадных, были солидно просты и располагали к естественности. В парадных покоях давались балы, банкеты, обеды на много персон и кувертов, вечера с игрою в ломбер на много столов, которые любила посещать императрица.
Сейчас в большой библиотеке интимных покоев, с книгами в лучших лейпцигских переплетах, сидели в вольтеровских креслах друг против друга Радищев и Брюсша. Сбоку, в темным штофом покрытой стене, вела неприметная под общий колер резная дверь в эрмитаж, сиречь уединение графини.
Радищев глянул на еще недавно так его волновавшую малоприметную резную дверь. Он твердо сказал себе, что нынче порога ее не в коем случае не переступит. Пение Аннет его манило сильнее, чем все ухищрения Брюсши.
— Вы не прочли мною данного «Вертера», Alexandre?
Радищеву и про эту столь его взволновавшую книгу изъясняться совсем не хотелось, но Брюсша сама тоном, презирающим всякое иное мнение, сказала:
— Большого шума наделал молодой Гёте в Германии. Приписывают этой книге уже несколько самоубийств от любви. Возможно, что существуют такие глупцы, которые даже стреляться по собственному почину не имеют достаточно имажинации.[73] И пример им должен сделать другой. Но я нахожу сочинение не оригинальным, повторяющим «Элоизу» Руссо. Несносна мне и преувеличенность чувств глупого Вертера к не менее глупенькой Лотте. Да и вся их история на пустом месте построена. Ежели оба героя столь не по нашему веку целомудренны, что ради мужа отказались от утех любви, — кто же, кроме автора самого, мог им помешать изъясниться, пока Лотта замужем еще не была? Ведь взаимная склонность налицо с первых встреч? Нет, незамысловатая книга…
— Так читать книгу, способную привести в исступление все чувства, — это все едино, что преждевременно растоптать цветок розы и вопрошать с недоумением, почему он не пахнет.
Радищев встал и подошел к окну. Постоял. Когда повернулся, лицо его было бледно.
А Прасковью Александровну бес так и подзуживал:
— Конечно, ежели юноша влюблен в милую и сам столь же невинен, как она, — «Вертер» прекрасный подручный! Из него можно списать письмецо и сделать признание. Там полна кладовая и вздохов и слез. Но для меня совершенная энигма, чем вас-то могла потрясти, любезный Alexandre, подобная книга?
— И все-таки вы правы: она меня потрясла, — не смущаясь ответил Радищев. — Любовная история, вами осмеянная, божественна своим простым благородством. Она полна силы чувства и целомудрия. Сии качества утрачены людьми наших дней, изощрившими чувственность. Возможно, что таковы законы души, — чувственность изгоняет чувство. В этой же книге важна сила чувств, их цельность, громадность подъятия… Куда, на что, как обрушится сей океан жизненной мощи, при оценке книги вопрос не главный. Океан чувств присутствует. Он водитель жизни. Да, чувство движет всем миром. Им свершается невозможное: Спартак подымает рабов, Галилей утверждает вращение земли, апостол Павел меняет лицо вселенной.