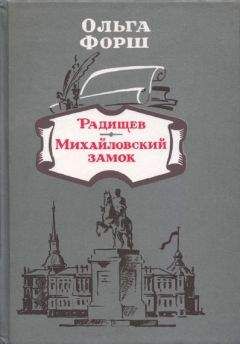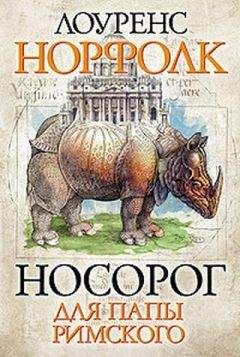— Чувством были двинуты и вы, не правда ли, Alexandre, когда написали вот это предерзостное примечание в вашем переводе? О нем я уж слышала и, предупреждаю, — неблагоприятные толки. Я говорю про изъяснение внизу вот этой страницы слова самодержавство, которым по вольнодумному капризу вы перевели нарочито французское — despotisme.
И Брюсша, выводя голосом злую иронию, прочла вслух:
— «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Вот оно стоит черным по белому изъяснение переводчика. Вами сделанное заключение еще любопытней, и любопытно, что оно даже текстом книги не вызвано нимало. Послушайте, сколь предерзостно звучит оно в чужом чтении. — И Брюсша прочла: — «Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества». Да неужто вы думаете, Alexandre, что императрице подобный наскок может понравиться?!
— Я написал то, что я думал, — сказал гордо Радищев, — и мысли мои разделены лучшими умами Европы. Не сама ли императрица дала повод мыслить согласно ансиклопедистам?
— Давала… но нынче более не дает, — отрезала Брюсша. — Ансиклопедисты! — засмеялась она. — Но вы сами знаете, как старик Дидро взамен убеждений, что у русской Семирамиды он может насадить по своей фантазии свободу, увез на плечах одну теплую соболью шубу! Да что далеко ходить, вчера еще Като мне сказала: «Как я люблю сентенцию Бейля! Вот уж точно ум, не витающий в облаках, как любезнейший Дидро». Хотите услышать сентенцию, Alexandre? Вот она: «Государственная политика и строгая честность несовместимы». Государям это правило — что папская индульгенция блудливым католикам. И поэтому я вам советую…
Радищев, забыв светское обращение, прервал вдруг с горячностью Брюсшу:
— Вы столь близки к трону! Сколь благотворно могло бы быть ваше влияние, ежели бы вы сами…
— Договаривайте!
— Ежели бы, говорю, сами вы не были столь равнодушны и развращены.
— Вы влюблены, Alexandre, я уверена, что вы влюблены. Идите ко мне на исповедь!
К Брюсше вернулось все — и лукавство, и веселость и прелести умной светскости. Притертая в меру белилами и румянами, в пудреном парике, при сердцещипательных мушках, — она была привлекательна.
Брюсша прошла первая в свой эрмитаж. На столе, сервированном с дорогой простотой, горели канделябры. Вверху люстра. Тени от люстры трепетными узкими цепями дрожали на потолке и спускались на стены, создавая беседку из теневых змей.
Брюсша пригласила к себе ручкой Радищева, но он к ней не двинулся. Он даже не вышел из охватившей его задумчивости:
«Что для нашего сердца весь мир, если в нем нет любви?» Не то ли волшебный фонарь без зажженного внутри света?»
Это встало в памяти ярко одно из писем Вертера к другу.
Стоя в освещенной комнате, склонив искусно перевитую жемчугом голову, Прасковья Александровна выразительно спросила:
— Не правда ли, Вертера где-то ждет милая сердцу Шарлотта?
— Не знаю, ждет ли, но Шарлотта есть точно, — серьезно и просто, не желая отвечать на игру Брюсши, подчеркнул Радищев.
— Так что ж, в добрый час! — уронила снисходительно Брюсша, играя цветком, вынутым из букета. — Я вас не задерживаю, Александр Николаевич.
Радищев откланялся и вышел.
Брюсша некоторое время сидела одна перед роскошным столом. Лицо ее вдруг состарилось. Взамен смены настроений тонкого ума печать озлобления проступила в чертах.
Наконец она подобралась, взглянула на часы. «Еще рано, — подумала она. — Като, верная своему расписанию, сейчас только кончает дневник. Пока она будет занята ночным убором для принятия фаворита, можно будет нам поболтать».
Брюсша прошла в библиотеку. Книжка Мабли так и осталась лежать развернутой на самом том месте, где она прочитала примечание Радищева.
— Так он мне и не написал дедикаса…
Брюсша позвонила, приказала заложить придворную карету. Книжку Мабли прихватила с собой.
Сегодня Екатерина с великим князем и его супругой ездила мимо стоящих против Адмиралтейства на обширном лугу качелей, балаганов и гор.
Цесаревич сказал: «В карусели едут все по́солонь, а на качелях падают с норда к зюду!»
Наблюдение Павла вызвало смех. Все стали рассаживать попарно придворных, воображая, как изменятся у них лица и все поведение при внезапности падений и взлетов. Понимать сие цесаревич предложил в аллегории…
Шла бойкая торговля гречаниками, квасом, блинами. Колонисты продавали свой молочный товар. Венгерцы и греки — нарядную мелочь и губки. Смехотворные и вольные шутки отпускал ярмарочный дед — дюжий парень с привязанной бородой.
В одном месте было много народу и крику. Полиция силилась схватить лист из рук махавшего им человека. Другие его защищали.
При виде кареты защитники разбежались. Арестованному стали крутить назад руки. Народ узнал Екатерину и шумно ее приветствовал. Цесаревич бросал в народ деньги. Екатерина остановила карету и приказала дать ей тот лист, который она видела издали. Не смели ослушаться — подали.
Екатерина пробежала строки глазами и приказала препроводить схваченного человека к генерал-адъютанту Потемкину. Наследнику с женой Екатерина листа не показала и, улыбаясь на все стороны, отбыла во дворец.
Сейчас этот лист лежал перед ней, развернутый на столе в ее рабочем кабинете. Черными, тесными буквами было на нем напечатано:
«Я во свете, всему войску и народом учрежденны велики государь, явившийся ис тайного места, прощающей народ и животных в винах делатель благодеяний, сладкоязычной, милостивый, мяхкосердечны российски царь, император Петр Федоровичь, во всем свете вольны, в усердии чисты разного звания народов самодержатель: прочая, и прочая, и прочая».
Екатерина вспомнила, как восторженно приветствует ее появление народ, и опасливая настороженность отпустила ее сердце.
Она сложила лист, заперла его в ящик, презрительно молвила:
— Ах, эти глупые казацкие гистории!
В дни брачных торжеств наследника с Вильгельминой объявилась первая весть о новом самозванце Емельке Пугачеве.
Немало было уже самозванцев со дня ее восшествия на престол. Немало злоумышляли и против полноты ее власти: заговор Гурьевых, дело Ласунского, Арсений Мациевич, казненный Мирович. И сейчас вот идет дело претендентки княжны Таракановой. Да кто они? Все бесправные.
С портретом Иоанна Антоновича, точно, деньги печатались. Здесь законны были и власть и права. А вот не ему судьба вышла, а ей. Царя ли мужицкого ей побояться?
Вот «дом свой» очистить надо бы. Дом Панины роют, — эти пострашней самозванца. Не по-ихнему вышло — не регентша из ихних рук, а самодержица. Так ведь разве угомонились?
С известным интриганом Тепловым проект состряпали о предоставлении власти совершеннолетнему Павлу.
Кто этот Павел — наследник и мало знакомый сын?
Чужда его душа ее твердому нраву и, что перед собою таить, неприятна. А связи той, несказуемой, что у матери с сыном бывает, у них нету вовсе, ни даже крепкой привычки.
Видывала его, как рос он при тетушке Елизавете, всего один раз в неделю, и то ненадолго. Без воли ее и дозора Павла кутали до удушья, баловали, глупили, на четырехлетнего парик с буклями напялили, парик этот няня кропила святой водой…
Такова судьба ее — матери: при Елизавете не пускали к сыну, сейчас сына нельзя вызволить ей от Панина. Чуть заболеет Павел — а здоровья он не крепкого, — тотчас пойдут наговоры. Недавно в Лондоне брошюру издали, где уже накаркано: «Падет Павел жертвой властолюбия матери».
И наше и европейское общественное мнение за то, что Павел в безопасности, лишь пока он за Паниным. «Ну, а разве тот прекратит класть руку „между деревом и его корой”?» — с досадой спросила она себя по-французски.
В день совершеннолетия Павла все ждали, что допущен он будет к правлению. Но рассудили за благо не допустить его дальше командования кирасирским полком, коего был он полковником. Даже в Совет не взяла. Допустить его… тотчас Панины его втянут в «действо».
Екатерина задумалась, взяв понюшку табаку из великолепной табакерки работы художника Бларамберга. Разрисованы были на ней те празднества с иллюминацией, что даны были в день бракосочетания цесаревича.
Екатерина опять забеспокоилась. Она вдруг вспомнила одного из удачливых самозванцев. Выходит, им тоже бывает удача…
Некий Степан из Крайны под видом лекаря прошел всю Черногорию и всенародно провозгласил себя императором Петром Третьим. Черногорцы поверили, его признали правителем. И ведь не выдали, несмотря на его деспотическое правление, а даже вступили с турками из-за него в кровопролитную войну. Степан был только недавно убит слугой-греком, подкупленным турками. Турки Степана боялись. И нам было то на руку, что боялись.