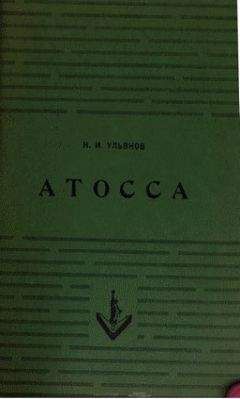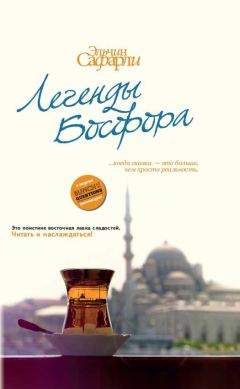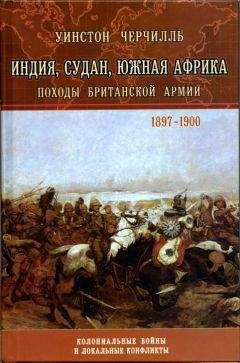— Поймать! — крикнул царь, указывая на жеребца.
Парфяне и пафлагонцы со всех сторон бежали к нему. Полный недавнего счастья, степняк стоял, расставя ноги, и, казалось, не понимал происходящего. Большие глаза спокойно осматривали бегущих людей. Но подпустив их близко, он рванулся с такой быстротой, что никто не успел бросить ни копья, ни аркана. Царь приставил нож к горлу предводителя пафлагонской сотни и прохрипел ему в побледневшее лицо, что он не увидит восхода солнца, если не доставит дерзкого коня.
Началась погоня по сонному лагерю. Поверженные люди, сорванные палатки отмечали ее путь. Вырвавшись из лабиринта шатров, жеребец нырнул в гущу персидского табуна. Табун был большой и, когда на него с криком устремились пафлагонцы, — шарахнулся на спавшее по соседству войско. Немало людей осталось в это утро лежать навсегда. Жеребец скрылся из глаз. Снова его увидели, когда он был далеко и выходил в открытую степь. С отчаянием гибнущих, пафлагонцы устремились туда, но степной конь мчался, как ветер, и скоро пропал из виду. Дарий ждал у шатра. Он велел убить всех стоявших на страже в эту ночь и теперь нетерпеливо посматривал в ту сторону, откуда должны были привести степняка. Показались всадники. Это был Мегабаз с царской охраной. Подъехав, он распахнул плащ и бросил к ногам Дария голову начальника пафлагонской сотни.
Приближалась Великая Ночь. Атосса чувствовала это не по одному только безумию скифа, возраставшему с каждым днем. Сама степь, курившаяся по вечерам то ли туманами, то ли облаками цветочной пыли, возвещала ее близость.
Наступление ее отмечено было небывалым безмолвием.
Не успело стемнеться, а уже птицы и звери умолкли, стройные мальвы застыли, устремив ввысь свои чашечки. За ними поднял опущенную голову подсолнечник, вытянулась конопель, расправила четырехгранные стебли дремука. Всё зеленое царство замерло в летаргии. От заката солнца до наступления темноты степь превратилась в храм, где возносились миллионы молитв о ниспослании благодати. Стояла хрустальная тишина. И покоряясь ее силе, персидский стан также притих и уснул.
Как только пропали последние отсветы зари, мир погрузился в такую тьму, какой не бывало от начала вселенной. Одинокие голоса звучали робко, неуверенно. Потом и они затихли.
Тогда царица ясно почувствовала зов степей. Он начался мелкой дрожью, как от озноба, и перешел в гулкое сердцебиение. Чем тише становилось в полях, тем ярче пламя тревоги. Щеки то горели, то застывали, как мраморные. Она поняла, отчего, иной раз, конь, всю жизнь верно служивший хозяину, переставал есть пшено, разламывал стойло и с беспокойным ржаньем убегал в поле.
Древняя родина призывала и манила.
Атосса бесшумной тенью вышла из шатра. На каждом шагу натыкалась на спящие тела, выпряженные колесницы, груды поклажи. Прошло много времени, прежде чем храпа и сонного дыхания не стало слышно. Раздавалось только фырканье пасущихся коней. Она выходила в степь.
Глаза не хотели привыкать в темноте. Мерещился свет, неясные предметы, синие, зеленые отблески, белесоватые сгустки тумана.
Когда пасущиеся табуны остались позади и царица шла по несмятой траве, до нее долетели жующие звуки. Как в свете костра, возникла пара коней с ниспадавшими долу гривами. К ним кто-то приближался голый, с черной, как ночь, бородой. А кругом перезрелые шапки пионов цвета зари. Свет исходил, казалось, от них. Царица пошла прочь и видение пропало. Теперь ни туманов, ни шорохов, только запахи резеды, чабреца да юмшаня. В эту ночь пахла каждая былинка и каждый венчик раскрывал алавастр с духами. То был язык цветов, созревших для любовных сплетений. В эту ночь они взывали о страсти и томились последней негой. Атосса чувствовала их прикосновения сквозь мокрое прилипшее платье и слышала безмолвную речь, торопливую повесть о жизни, прожитой в ожидании единственного краткого мига и только ради него.
Не цветам ли открыта тайна трех кругов блаженства?
Пробираясь во тьме, она, как в рощу, зашла в заросли бурьяна, походившие на озаренный изнутри лес. Мириады светлячков освещали их зелеными фонариками. Эти призывные, полные страсти огни любви, зажженные серыми червячками, влекли неотвратимо; в каждой искорке светилось бездонное. Царица поняла, что если в дебрях жизни, таких же глухих и непроходимых, люди не сходят с ума, то только потому, что, как эти переплетающиеся стебли, озарены светом счастья, струящимся из неведомого мира.
Пока она стояла, завороженная видением, кого-то с шумом проволокли совсем близко, так что слышен был хруст бурьяна. И следом крадущаяся поступь, осторожное раздвигание травы.
Как только шорохи удалились, царица пошла, продираясь, сквозь чащу. На поляне, куда она выбралась, светлячки пропали, перед нею снова зияла ночь и мировое пространство.
— Ууу! Гу-гу-гу-уу! — раздалось над самой головой так громко, что царица присела. Удаляясь, крик повторился дважды. Она поняла, что это филин, но долго не могла подавить страха, разбуженного отчаянным воплем. Сердце забилось еще сильнее, когда через некоторое время услышала могучее ржанье. Далеко, на краю степи, заговорила толпа. Царица остановилась, и всё смолко. Она тронулась, и толпа снова заговорила в другой стороне. Потом послышались отдаленные удары молота по железу и, совсем близко, вкрадчивый шо-пот. Какими голосами, выкриками, трепетанием парусов, свистом ветра наполнилась степь, когда Атосса бросилась бежать! Чем быстрее бежала, тем сильнее шумела степь. Цветы цеплялись за ноги, за руки, рвали одежду. Бежала, пока не упала без сил.
И опять непроницаемая тишина.
Где-то звездой вспыхнул огонек. Принимая его за обман, царица закрыла глаза и ждала, но когда открыла снова, огонек продолжал гореть.
Она нашла в себе силы пойти прямо на него. Представилось, будто летит сквозь мрак на далекую планету. Тяжелый массив, невидимый, но угадываемый, возник перед ней. Она стояла у подножья кургана. Свет теплился на самой его вершине; горел воск в каменной чаше ровным, немигающим пламенем. Чаша стояла перед черной статуей, освещая огромный круглый живот, мешки грудей и расплывшееся каменное лицо без подбородка. Младенческие плечи и руки, приросшие к телу, по-лягушечьи согнутые короткие ноги.
Царица зашла с другой стороны и силуэт обозначился черной конусообразной массой.
Богиня!
Голос ее нашел отзвук, возгласы ярости, стоны и шум борьбы. Потом торопливые шаги, порывистое дыхание. Кто-то грубо схватил ее за плечи и она лишилась чувств.
Не было человека в войске, который бы не побледнел при вести об исчезновении царицы. Только потеря знамени, сдача крепости, потухание священного огня могли сравняться с этим бедствием.
— Обречены! Все, все обречены! — шептались между собой испуганные люди.
Обыскали окрестность, но нашли только труп эфиопа. Он лежал со вспоротым животом у подножья кургана, с вершины которого таращилось лицо темного идола. Тогда Эобаз воткнул в землю меч и ринулся на него. Но ударом ноги его успели отбросить в сторону. Связанного привели перед лицо Дария.
У царя при страшном известии не дрогнул ни один мускул, только пальцы так сжали рукоятку кинжала, что кровь брызнула из-под ногтей.
— Ты ее потерял, ты ее и найдешь, — сказал он Эобазу.
Ему дали две тысячи всадников. Другой отряд составили из памфилийцев и ликийцев с Сарпедоном во главе. Третий, персидский отряд, поручили Гобриасу.
Им велели разъехаться в разные стороны и обыскать всю степь.
Вернуться можете только с царицей!
Пошедшие с Сарпедоном принадлежали к числу зараженных духом неповиновения. Утомленные походом, они теперь излили затаенную злобу в открытом поношении имени даря. Сарпедон слышал насмешки и над собой. Действительно ли он сын Главка, геройски павшего в борьбе с персами? Нет, он был подменен в детстве. Кровь Главка не можеть течь в жилах царского раба. Тень отца отвергнет его, когда он явится к ней в царстве мертвых.
Сарпедон знал, что от него постоянно ждали смелого шага к свержению иноземного ига, и не будь он так осторожен, был бы втянут в заговор против царя. Но и сам он, выслуживаясь перед Дарием, втайне ненавидел его. Когда начался скифский поход, он загорелся великой надеждой. Тайный голос подсказывал, что царь сделал ложный шаг и должен погибнуть. Пугала только опасность погибнуть вместе с ним. Но ответ оракула в Бранхидах, которого он запросил, успокоил его:
«Ты умрешь в тот день, когда не в состоянии будешь надеть щит на руку». Толкователи усматривали в этом указание на продолжительную жизнь и мирную кончину.
Он ехал молча, погруженный в свои мысли. Проходили суровой местностью, усеянной крупными камнями, белевшими, как черепа, в траве. На них сидели большие черные птицы. В одном месте наткнулись на скелеты людей и коней с проросшей между ребрами жесткой травой.