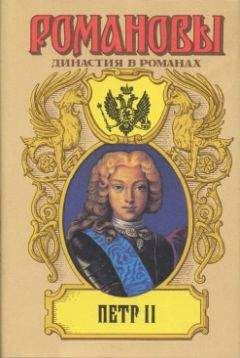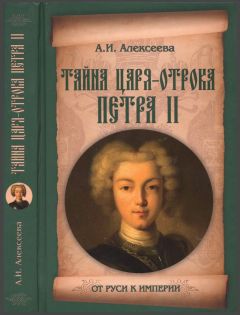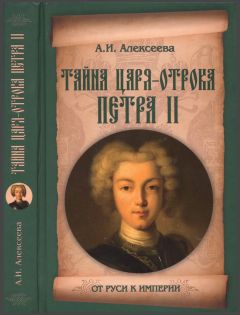Этот парень был не кто иной, как Никита.
— Ваше сиятельство! — воскликнул он, всплеснув руками и кланяясь чуть не до земли Долгорукому. — Вот не ждал я такой радости-то! Да что же у ворот-то стоите? Пожалуйте на мельницу. Я и лошадку вашу под навес поставлю.
И он схватился, уже за узду лошади.
— Постой! — остановил его Долгорукий. — Ты что здесь — один?
— Есть ещё мельник, Кондратом звать, да вы его, ваше сиятельство, и не увидите. Он теперь наверху на кузовах стоит.
— Ну всё-таки он мне помешать может. Мы лучше с тобой здесь потолкуем. Ты не забыл, что ты мне сказал, когда от нас в оброк уходил?
— Что вы, ваше сиятельство, как можно забыть! Во веки веков вашу доброту не забуду!
— И не откажешься мне в одном деле помочь?
— Да разрази меня Господь, коль откажусь! Сказано — ваш слуга. Прикажите хоть в огонь, хоть в воду лезть, — полезу!
— Вот я к тебе потому и приехал. Нужна мне твоя помощь, нужен мне такой человек, чтобы всё, что я скажу, сделал. За наградой, Никита, я не постою.
Никитка даже руками замахал.
— Что вы, ваше сиятельство! — воскликнул он. — Да нешто это возможно! Да я у вас в таком долгу неоплатном, что и без всяких наград всё сделаю!
— Ну ладно. Об этом потом разговор будет, а теперь слушай…
Но Долгорукий не успел сказать больше ни одного слова. Он совершенно случайно взглянул на Никиту и вдруг вздрогнул всем телом, побледнел как смерть и со страшным неистовым криком отшатнулся назад.
Сзади Никитки, в пролёте ворот он увидел бледное исхудалое лицо князя Василия Матвеевича Барятинского…
Глава IV
Счастливый случай
Барятинского спас от неизбежной смерти положительно счастливый случай. Удар, нанесённый ему Сенькой Косарём, конечно, убил бы его на месте, если б у него на голове не было Преображенского пояркового треуха, значительно ослабившего силу удара. Но всё же этот удар был так силён, что он не только ошеломил его, лишил чувств, но и вызвал даже сотрясение мозга.
И Митяй, и Сенька сочли его убитым и потому не стали «приканчивать», тем более что им было теперь уже не до него. Им ещё предстояло позаняться Антропычем, тотчас же набросившимся на Барятинского, когда тот упал.
Сначала и Митяй, и Сенька помогали раздевать бесчувственного, казавшегося бездыханным, офицера, но когда Антропыч сорвал наконец заветный пояс с золотой начинкой, они приступили к нему.
— А это что за штука? — спросил Сенька.
— Да так, поясок немудрящий, — невинно отозвался старый разбойник.
— Так что ж, что немудрящий, — заметил Митяй, — мы и его дуванить будем [14].
— Зачем его дуванить, — возразил Антропыч. — Вы его уж мне уступите.
И Митяй и Сенька расхохотались.
— Ишь, какой лысый!.. Да небось в нём все червонцы…
— Какие червонцы! Ничего в нём нет. Тряпка, и больше ничего…
И с этими словами старик принялся дрожащими руками запихивать пояс за пазуху.
Но это ему не удалось.
Митяй схватил пояс за один конец, Сенька — за другой, и, как Антропыч ни сопротивлялся, они вырвали у него эту заветную для старого шута вещицу, вспороли ножом, неведомо откуда очутившимся в руках у Сеньки, — и червонцы, блеснувшие при тусклом свете лучины ослепительно ярким блеском, со звоном посыпались на пол, точно золотым ореолом окружая неподвижную голову несчастного Барятинского.
— Это мои червонцы! Мои! — завопил Антропыч. — У нас, чай, уговор был. Всё берите, а это не троньте… Это всё моё.
И он бросился на колени и, ползая по полу, стал подбирать желтевшие монеты.
Митяй резко схватил его за ворот и почти насильно поднял на ноги.
— Постой, старый дьявол! — крикнул он, злобно сверкая глазами. — Ты что это, надувать нас стал?
Голос Митяя звучал так грозно, что Антропыч сразу понял, что дело неладно. А взгляд, брошенный им на Сеньку, с самой ехидной улыбкой поглаживавшего пальцами левой руки нож, точно пробуя его остроту, окончательно убедил его, что его сотоварищи что-то против него замышляют.
Антропыч сразу переменился в лице и слезливым голосом проговорил:
— Да что вы это, братцы! Уж неужто я и на самом деле нехристь… Чай, я не знал, что тут кружочки… Кабы знал, нешто я от дувана откажусь… Дуваньте по чести.
— А, теперь «дуваньте»! — расхохотался Сенька. — Ишь, старая кочерга, обмишулить нас замыслил. Ну да врёшь, — не на таковских напал.
— У нас за обман расправа коротка! — угрюмо подтвердил и Митяй и придвинулся к дрожавшему Антропычу всем своим могучим телом.
Эти слова словно обожгли Антропыча. В нём проснулась страстная жажда жизни. Жить во что бы то ни стало, хотя бы для этого пришлось поднять на ноги всё село, выдать с головою и себя, и своих сообщников, и Долгорукого…
И он одним прыжком очутился у двери и с громким, отчаянным криком распахнул её.
— Спасите! Режут! — заорал он благим матом.
Ещё мгновенье — и он очутился бы на дворе и своим неистовым криком пробудил бы всю округу.
Но Сенька не зевал. Как кошка, бросился он на него, сильной рукой схватил его за горло и втащил назад в избу.
— Чего орёшь! — язвительным шёпотом сказал он. — Ещё не зарезали… Вот теперь ори, сколько влезет.
И он всадил в грудь Антропыча нож, который всё время держал в руке.
Старый разбойник захрипел и с подавленным стоном грохнулся на пол, заливая всё кругом кровью, фонтаном бившей из раны.
— Туда собаке и дорога! — хмуро буркнул Митяй и потом крикнул: — Эй, бабьё! Буде валяться-то… Мы вот касатиков-то в чащу стащим, а вы тут всё замойте, чтоб этой поганой крови и следа не оставалось…
Через несколько минут по задам напруднинских изб медленно проехала телега, на передке которой, меланхолически посасывая трубочку, сидел Митяй. Около лошади, ощупывая палкой невидную в ночной мгле дорогу, шагал Сенька.
Когда телега въехала в рощу, Сенька заговорил:
— А куда мы их бросим?
— Да куда-нибудь подале, — хладнокровно отозвался Митяй.
— Стало, на Алексеевскую межу…
— Стало, туда.
И они снова замолчали.
Кругом стояла мёртвая тишина, которую изредка нарушали только неясные голоса ночи, словно доносившиеся из чащи, тихое ржанье лошади да скрип тележных колёс…
Но чем дальше углублялась телега в лесную чащу, тем глуше и глуше скрипели колёса, тем тише слышалось лошадиное фырканье…
Наконец ночная тишина совсем поглотила их, и только шум в ветвях лесных великанов, словно неясный шёпот, нарушал эту немую тишь…
Старый Кондрат, бывший мельником на Тихоновском ветряке, пользовался дурною славою во всей Алексеевской округе. Его называли колдуном.
Сам мельник и не старался оспаривать сложившуюся о нём народную молву. Казалось, он даже вполне доволен был тем боязливым уважением, с каким относились к нему соседи, и нередко, когда на селе кого-нибудь захватывала хворь, Кондрат не отказывался посетить хворого, принося с собою то настойку каких-то трав, то какие-то маслица, которыми он и пользовал недужных. И случалось иной раз, что хворь, захватившая человека, поддавалась его «ведовству», и об его знахарстве бежала громкая слава, сделавшая имя мельника известным на многие десятки вёрст вокруг. Но, несмотря на то, что Кондрат никому своим колдовством не приносил вреда, а скорее даже оказывал пользу, — его все боялись. Встречаясь с ним на рассвете, когда он возвращался с таинственных лесных прогулок, робкие мужики хотя и отвешивали ему низкие, чуть не до земли, поклоны, но тотчас же спешили отплюнуться в левую сторону и шептали, тайком крестясь:
— Свят, свят… Да воскреснет Баг, и расточатся врази Его…
И вот однажды, почти битком набив свой мешок разными корешками и травами, старый Кондрат хотел уже возвращаться домой, когда его зоркие, острые глаза упали на что-то белое, видневшееся на дне глубокого оврага.
Вчера, когда он проходил мимо этого оврага, он ничего не заметил. Такое странное явление заинтересовало старого мельника, и он, придерживаясь за кусты боярышника и малинника, густо разросшегося по более пологому склону, спустился в овраг.
Каково же было его изумление и ужас, когда он увидел здесь два человеческих тела. Один был молодой, красивый человек; другой — дряхлый старик, сплошь залитый кровью.
Это были Антропыч и Барятинский.
— Вот так штука! — воскликнул Кондрат. — Кто ж это такое умудрился сделать?!
Антропыч был уже мёртв. Жизнь давно уже, очевидно отлетела из его тела, потому что труп совершенно закоченел.
Но Барятинский был ещё жив.
Кондрат прислушался к его сердцу: оно хотя и очень слабо, но всё-таки билось.
«Ну ладно, сердешный, — подумал старик. — Мы тебя вызволим…»
И старик торопливо выбрался из оврага, отправился на мельницу, взял с собой Никитку и, вернувшись с ним вместе к роковому месту, перенёс бесчувственного Барятинского на мельницу, запретив Никитке строго-настрого кому бы то ни было говорить о своей находке.