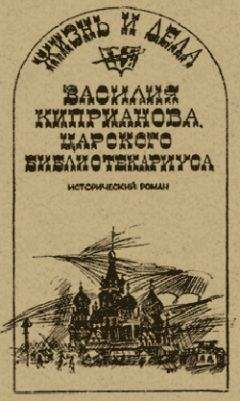— А где же, где то самое? — тосковал Бяша.
— Вот, глянь левее, о другом склоне… Да нет, не там, это Прешпург, потешная крепостца. Вон за солдатскими светелками — первый ряд, второй ряд… видишь? Такая бревенчатая, пузатая, припертая колодами, чтоб не распалась, — это и есть Бедность, главная башня Преображенского приказа. Только, брат, туда мы с тобою не попадем, охраны там, видать, гораздо!
В этот момент загудел ефрейторский рожок возле генерального двора, и начался развод караула. Приятели засмотрелись, как четко вышагивают солдатики, будто заводные. Перестраиваются по двое, по четверо, отдают честь, ружьями артикул выделывают на ходу.
Заглядевшись, они вздрогнули от окрика за спиной:
— Позволь! Позволь!
Конвойные солдаты, сонные и злые от жары, гнали по тропе целую вереницу колодников. Возвращались, видимо, из Семеновского или Лефортова, куда их каждый день гоняют милостыню сбирать. Казне экономия, а на что же и питаться сей бедноте?
Приятели поспешно посторонились, и мимо них, воняя потом, гнилью, тюремной парашей, заковыляли убогие; с любопытством поворачивая к ним бородатые клейменые, калеченые и при всем том развеселые лица. Хоть все они были в цепях, но звона почти не слышалось — опытные колодники, они ловко несли в руках свои «мелкозвоны». Некоторые на ходу жевали калачи.
— Сынки, подайте, христа ради! — стал клянчить крайний, у которого на лбу красовался струп от наложенного клейма.
Максюта спросил капрала, который шагал по обочине, поигрывая полосатой палкой:
— Ваша светлость! Позвольте ему подать!
А Бяше он шепнул:
— Авось и разузнаем!
— Подавай! — милостиво разрешил капрал и крикнул: — Эй, каторга! Приставить ногу — привал!
Максюта вынул из-за щеки копеечку, единственное свое сокровище, и подал клейменому. Наклонившись, стал у него выспрашивать, где женщины содержатся да есть ли туда какой доступ.
К Бяше тоже пристал колодник с костылем; лицо у него было перетянуто тряпицей — вероятно, вырваны ноздри.
— Эй, боярин! Подай и ты, спасения души ради!
Бяша растерянно развел руками — у него с собой не было ничего.
Колодник, подняв костыль, перелез через канавку и вплотную приблизил свою морду к Бяше. Так и пахнуло чесноком и перегаром.
— Ты, гунявый! — сказал ему другой колодник, благообразный, с глубоко ввалившимися праведными глазами. — Что из ряда вылез? Вон капрал — он те живо визжаком замастырит[159].
— Нича! — весело ответил гунявый. — Обойдется. А ты знай свою хлебалку, в мою не суйся!
Он стал ощупывать полотняный армячок Бяши, который тот по случаю жары нес в руке, и насмешливо восхитился:
— Ого-го! Шелка, бархата заморские! Подарил бы ты мне его на мои болести, а? — И, не дожидаясь ответа, стал тянуть кафтанец к себе.
Бяша не знал, как и сопротивляться. Тут благообразный колодник ахнул, всплеснув руками: «Что он делает, христопродавец, что он делает?» — перемахнул через канавку и принялся деловито стаскивать с Бяши его канифасовые[160] порточки.
— Гы-гы-гы! — завопил третий колодник, подскакивая. — Ваши ручки, ваши ножки, пузичко, а едало, чур, мое! — И, завалив Бяшу на траву, он большим пальцем влез ему в рот его, ища за щекой монету.
— Подъем, подъем! — раздался голос капрала. — А ну, нищета, бегом — гроза идет! Ты, нюхало сатанинское, уже улегся? Храповицкого задавать? Вот тебе!
Заработала полосатая палка, и вся команда, отчаянно зазвенев кандалами, бросилась вверх по тропе. И верно — незаметно подкралась гроза. Горячий воздух сгустился, все померкло, притихло и вдруг взорвалось под напором холодного ветра. Налетевший шквал гнул травы, нес какие-то ошметки тряпья. Столб пыли крутился над Яузой. В небе грозно урчал гром.
— Господин начальник! — отчаянно кричал вслед уходящему конвою Максюта. — Они же нас раздели! Как же мы теперь голые пойдем?
Конвой не обратил ни малейшего внимания на его вопли. Бежать, догонять, драться? Команда уже втягивалась в распахнувшуюся дубовую пасть острога.
Хуже всего, что вместе с сермяжным[161] кафтанцем исчезли и Бяшины очки. Да и что же теперь, действительно, делать? Вновь и вновь ударял гром, блистала молния, а они сидели растерянные в мятущейся от ветра траве. Упали первые капли, а потом полились и струи дождя.
— Голому дождь не страшен! — мрачно шутил Максюта.
Но надо было что-то предпринимать. В острожные строения и в царские палаты лезть нечего было и думать. Холодные, противные струи лили на них сверху, все сразу сделалось ужасным — и трава и небо. Бяша только что не плакал, стиснув зубы, зажмурив глаза.
— Спасение! — вдруг закричал Максюта, схватил друга за руку и потащил за собой вниз.
Он вспомнил, что на другом берегу ручья есть монастырская богадельня[162]. Монахи-то уж рогожку какую-нибудь да подадут!
Впопыхах угодили в болотце, хоть плачь! Завязли — и ни туда пи сюда, а ливень как нанятый, шпарит без передышки! Наконец нашли брод, выбрались на противоположный берег окаянной Хапиловки. Тут и дождь перестал, как по заказу, выглянуло солнце. Бедный Бяша трясся мелкой дрожью, зуб на зуб не попадал.
А неунывающий Максюта уже стучался в ставень богадельни:
— Отцы пречестные! Милостивцы! Помогите православным, пострадавшим от татей! Яко в писании — еже имееши ризу единую, голому отдах… Или по-иному, я не помню, все равно помогите!
Ни стука, ни шороха. А Бяша изнемогал от озноба, ухватившись за плечо друга. Максюта удвоил усилия, крича, что один из ограбленных — сын богатого купца из Покромного ряда, его родители щедро одарят…
Тогда ставень приоткрылся, и чья-то благодетельная рука высунула ворох разнообразной одежды. Максюта с восторгом принял его и уже стал говорить о благодарности, как низкий женский голос проговорил из-за ставня:
— Ступайте, отроки, удаляйтесь поскорее. Мы ничего более не можем, обещаем только молиться за вас. Здесь девичья обитель.
Среди одежд оказались рясы и какие-то покрывала — монастырские платы, что ли? Но этого было достаточно, чтобы поспешно одеться и бежать по направлению к Москве.
Приятели ухитрились вернуться незамеченными. Бяша переоделся, отказался от ужина, лег в постель. А Максюту все-таки перехватил сам Канунников. Был он не в духе — отделал парня вожжами, потом запер одумываться в ледник. А ночью у Бяши открылся жар. Он метался, не узнавал никого, кричал, порывался разбить башню Бедность, ту самую, что подперта дубовыми колодами. Киприанов и баба Марьяна в изумлении переглянулись — это где же он такое вчера был-пропадал?
— Что делать, Онуфрич? — спросила баба Марьяна. — Ведь он шибко хворый! Лекаря, что ли, звать? А он и лекарю наговорит страстей про Преображенку… Что там твой Календарь Неисходимый предписывает? Ты же сказывал, что в нем имеется врачующая часть.
Но календарь что-то неясно толковал о противостоянии Марса и Меркурия, о прилитии мокрот, советовал взять на коришной воды лот[163] тминного масла полквинтеля[164] и давать больному по ложке через несколько часов. Баба Марьяна махнула рукой и, хорошенько натопя печь в поварне, вместе с Федькой и Саттерупом вынесла беспамятного Бяшу, посадила его прямо в устье печи и там выпарила хорошенько. Потом напоила малиновым отваром, горчичным семенем смазала ему подошвы и, закутав в овчинный тулуп, уложила на свою печь.
И бред прошел. Перестали чудиться не то бревна, не то лапы, ожившие драконы с Преображенских флюгеров. Стало тихо и спокойно, стало понятно, что он в родном доме, где все мирно спят, лишь мерцает полунощная лампадка, возле которой прикорнула баба Марьяна, взявшаяся дежурить у больного до утра.
И вдруг снова где-то не очень далеко раздался призывный крик петуха. Бяша хотел вскочить, закричать, познать людей, сам не зная зачем, но сковавшая его слабость не дала и пальцем шевельнуть. Он только слушал, как петушиный крик повторился еще два раза, и потом уже, погружаясь в бездну сна, Бяша слышал, как петух кричал вновь, но уж как-то глухо и безнадежно.
Бяша не запомнил, как все эти дни за ним ухаживала баба Марьяна, только осталось ощущение ее заботливых рук. А вот помнит, как отец забирался к нему на печь, касался колючим подбородком его пылающей щеки, наговаривал присказочку, которую мать, покойница, пела Бяше и детстве, когда он хворал, — а он часто хворал!
«Дома ли кума, воробей?» — «До-ома!» — «Что он делает?» — «Болен лежит». — «А что у него болит?» — «Пяточки». — «Пойди, кума, в огород, возьми травы мяточки, попарь ему пяточки». — «Парила, кумушка, парила, голубушка, его пар не берет, только жару придает!»
И он опять забылся, и виделось ему детство. Он, Бяша, первый год в Навигацкой школе. Все ему в диковинку — и огромные сводчатые залы Сухаревой башни, и учитель, непрерывно стукающий линейкой по столу, и товарищи, сидящие на скамьях тесно, плечо к плечу. Среди них и усатые, великовозрастные женатики, и совсем еще мальцы вроде Бяши. В шесть утра их, сонных, разомлевших, мастер, еще более заспанный, ругательски ругая строгий школьный регламент, тащит на пустырь, где они упражняются в черчении планов. А вот учитель фехтования, сухопарый живчик француз с бородкой острой и усами словно пики: «Алле! Алле! Мосье Киприанофф, шорт побери, алле, кураж!»