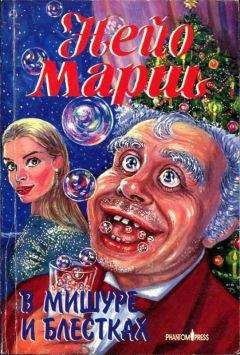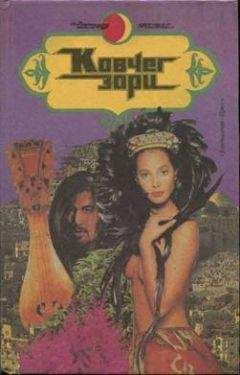— А как?
— Как велит аллах!
— Я и живу, как велит аллах! — вспыхнул ученый. — Разве грех — быть самим собою, то есть таким, каким тебя сотворил господь? Сказано: все в руках божьих. Или вы против божьих предначертаний?
Что мог возразить на это степняк, не искушенный в тонких словопрениях? Он согнулся еще ниже, с досадой сбросил тяжелую, скрученную в жгут чалму, будто это она придавила его к земле, — и с мучительным вздохом встряхнул головой.
— Оставайся, а? — сказал он тихо, с мольбою в голосе, как брату, не поднимая глаз, чтоб, не дай бог, не смутить, не обидеть Омара Хайяма. — Разогнал бы всех дармоедов. Собрал ученых. Построил обсерваторию. Взял бы себе в икту любой город с округой — хоть Самарканд, хоть Hyp, хоть Несеф. Лучше всего бы — Термез, но теперь он у Меликшаха. Ведь это десятки тысяч золотых динаров…
По медной щеке хакана скатилась слеза. Не понять, о чем он горюет: о том, что эти десятки тысяч не достались Омару или о том, что ускользнули из его, хакановых рук. Омар испугался: вот-вот правитель расплачется в голос, навзрыд, это могут увидеть телохранители. Нехорошо. Цари не плачут. Не должны плакать.
— Успокойтесь! Я… подумаю.
— Подумай! — вскинулся хакан.
— Но что скажет султан, если я останусь?
— Э! — Хакан махнул рукой. — Отпишем ему, что ты уже был назначен визирем. Визиря-то он не посмеет забрать у меня?
— Не знаю. Посмотрим. Я поброжу, подумаю. Мне надо побыть одному.
— Ступай… безбожник, — усмехнулся хакан. О аллах! Почему небо дает одним разум, но не дает им веры, других наделяет верой, но обделяет умом? Неужто разум и вера несовместимы? А может, разум и есть знак высшего божьего благоволения? Как же так, ведь пророк…
Тут от бога он перешел в своих мыслях к служителям божьим, к духовенству. Нет! Хакан боязливо оглянулся, торопливо подцепил рукой и надел чалму. Как бы прикрываясь ею от меча, незримо занесенного над его головой.
Не нужно никаких затей. Только считается, что царь всем и всему в стране господин. Если хотите знать, он тоже раб. Раб жестоких обычаев, страшного времени. Раб жадных священнослужителей, всех этих шейхов, ишанов. И послушных им эмиров, беков, знатных земледельцев. Попробуй их задеть! Сметут. Даже собственному скоту-телохранителю — и тому угождай. А то зарежет, обозлившись.
Омар — он может жить как хочет. Ему-то нечего терять. А Хакану — есть. Пусть все будет как было. Пусть в Европе, где некуда ногу поставить, мудрят над числами и звездами. У нас много земли и воды, много хлеба, нам не нужно спешить. Что касается грядущих бед, аллах оборонит нас от них. Или чет? Хотя…
Запутавшись в сомнениях, правитель велел слуге подать вина и позвать Лейлу, его любимую арабскую плясунью. Забавно глядеть, как, танцуя, она призывно трясет животом и бедрами. Это пока что нам еще доступно.
И радуйтесь, государь, тому, что у вас есть. Никаких новшеств! Пусть едет Омар. Он опасен. Он здесь не нужен.
Хорошо идти, просто идти куда-то, с удовольствием ощущая свое крепкое тело, легкую поступь, ясную голову. Бродя между шатрами по стану, Омар вспомнил о туркменах, приехавших за ним. Надо взглянуть. Опятьтаки просто так, из любопытства. Он еще ничего не решил, но где-то внутри уже знал: в Исфахан не поедет.
Зачем? В Нишапуре еще не высохла кровь его ученых друзей. И теперь-то, когда Шамс аль-Мульк дозволяет ему столь неслыханную свободу действий?
Загоревшись, он уже видел гигантский секстант, плавно, отрезком радуги, уходящий ввысь, к небу. Он построит, — может, на том холме? — лучшую в мире обсерваторию. И медресе, лучшее в мире, просторное, светлое. Особое, где молодежь будет заниматься точными науками. Нет, святош он в него не пустит! Пусть изощряются в словоблудии в своих темных кельях.
Он призовет к себе умных людей со всего Турана: астрономов, художников, зодчих, врачей. Всех, способных к творчеству. Противно смотреть на города, похожие на мусорную свалку, с их глухими глинобитными оградами, грязными каналами, с безобразной путаницей тупиков, закоулков и пустырей. На дороги с непролазной грязью, на переправы без мостов.
Здесь возникнут иные города и селения.
С детства часто видел во сне Омар исполинское строгое здание, сверху донизу облицованное ярко-синими и белыми изразцами, изображающими ночное небо и звездный мир, — оно, все как есть, блестящее, стройное, отражалось в прозрачной голубой воде огромного мраморного бассейна, за которым, над белой алебастровой решеткой, чернели густые, в зеленых пятнах, кроны прохладных шелковичных деревьев.
Точно мираж, безмолвно вставало оно, то синее звездное здание у голубого бассейна, в красочных снах.
Иные люди — здоровые, сытые, знающие грамоту, люди, свободные духом, будут с песней трудиться в полях и мастерских. Наука — только она! — способна возродить к новой жизни эту многострадальную землю…
— Сто динаров и три фельса! Грох в грох, трах в прах вашу мать. Хорошо тут встречают гостей. Туркмен без мяса — не туркмен! Нас же кормят пустой просяной похлебкой…
Омар нашел приезжих поодаль, с краю стана, в отдельной палатке.
При виде молодого человека в дорогой парчовой одежде сообразили: перед ними — важное лицо, вскочили, согнулись в низком поклоне.
— Кто предводитель?
— Ваш покорный слуга, — неуклюже выступил вперед рослый воин средних лет в полосатом длинном халате. — Что прикажете, господин?
— Э! — воскликнул Омар удивленно. — Я тебя знаю. Туркмен оробел, попятился.
— Я… вы… — бормочет смущенно, — не припомню, чтоб мы… где-нибудь встречались.
— Встречались! Шестнадцать лет назад на Фирузгондской дороге. Ты — Ораз из племени кынык. Ты просил не забыть о тебе, если я стану большим человеком. Вот я стал им! И не забыл о тебе.
— О боже! — У туркмена подкосились ноги. Он повалился на колени, припал головой к Омаровым сапогам. — Смилуйтесь! Не велите казнить. По глупости…
— Встань! Не таким смиренным ты был тогда на Фирузгондской горной дороге, где зарезал нашего Ахмеда.
Ораз тяжело встал и, не поднимая глаз, сокрушенно развел руками.
— Я тот самый ученый, за которым ты приехал, — добил его Омар.
"Пропал! — похолодел Ораз. — Я пропал, уже умер, будь я проклят!"
— Прикажете… собираться в путь?
— Нет еще, — вздохнул Омар.
Голубой Нишапур, Баге-Санг в цвету. Печальный старик Мохамед. Родные. По пути в Исфахан он мог бы проведать их…
— Пойдем со мною, пройдемся, — тихо сказал Омар. Ораз несмело тащился подле, боязливо поглядывая сбоку, не узнавая его — и уже узнавая.
"Пожалел на свою голову. Прибил бы тогда на Фирузгондской дороге, и не было б нынче хлопот, давно все забылось. Теперь житья не даст".
— Ну, что в Хорасане?
— Все то же. Богатые богатеют, бедные пуще беднеют.
Эх, тоска! Она, давно уже было заглохшая, взметнулась в клубах черного дыма, как из еле тлеющего уголька вдруг вырывается пламя в костре. Даже сей головорез Ораз показался Омару до слез родным. Потому что внезапно, так грубо и зримо, живой и здоровый, с ясными глазами, крепким голосом, явился к нему прямо из детства.
"Убить по дороге в Исфахан! И сказать султану: заболел и умер. Друзья не выдадут. Или — кто знает? Могут продать".
— Ступай назад. — Омар, далекий, как на другой планете, сунул ему, не глядя, золотой. — Купи барана. Зарежь, зажарь, накорми друзей. И собери их в дорогу. Будьте готовы в любой миг выступить в путь. Поеду я с вами, не поеду — тебе тут незачем торчать.
"Э! Ему не до меня. У него своих забот сверх головы. Не станет мстить? Ладно, там будет видно".
***
По еле заметному, в кустах и песке, руслу древнего канала Омар вышел к холму, влез на обломок стены. Тишина. Черепки. Битый кирпич. Золотисто-белесая охра, глубокие синие тени. И вездесущий янтак, верблюжья колючка. Здесь, говорят, находилось летнее жилье бухар-худаков, славных таджикских правителей. Стояли дворцы, красота которых вошла в поговорку. Теперь тут пристанище черепах и змей — людоедов-гулей, если верить россказням, бытующим в окрестностях.
И этот город был уничтожен, как многие другие, свирепыми пришельцами. Ради чего? Ради истинной веры, конечно. Омар подобрал в расселине крупный обломок — косо отбитый верх кувшина с горлом, ручкой и частью корпуса. Стер ладонью пыль с глазури, и луч солнца, отразившись от гладкой блестящей поверхности, ударил ему в глаза.
Он сел на щербатый выступ стены и впал в оцепенение. Будто сквозь мозг и сердце, вместе с горячим ветром, дующим с песчаных равнин, заструилось само безжалостное время, что грозно течет по вселенной, оставляя повсюду груды развалин. Нигде так явственно не ощущаешь его жестокой неумолимости, как в руинах.
Почему-то вспомнилась Рейхан. Захотелось плакать. По себе, по Рейхан, по людям, женщинам и умершим здесь, по их давным-давно отзвучавшему смеху, угасшим глазам и мечтам. По всему человечеству с обломками его несбывшихся надежд…