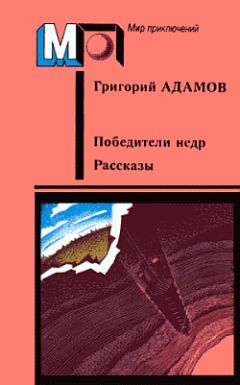— Нет, нет. Давай-ка вот что — спать.
На окне, наконец-то, угомонилась муха. За стенкой уже спали старики, и слышался храп с посвистом Ивана Александровича. Пахло сохшим на русской печке нарезанным хлебом, кисло-сладко натягивало квасом из бочонка. В конюховке заржала лошадь, и ей немедленно ответила собака завывающим лаем. Но вскоре снова наступила глухая потёмочная тишина.
* * *
В начале июля Елена поняла, что беременна, и мысль о том, что придётся рожать от нелюбимого, угнетала и злила её. «Вытравлю!» — однажды подумала она, ощущая приступ кружения в голове и тошноты. Но эта мысль испугала Елену, колко похолодила душу.
33
На Покров, после службы в церкви и многолюдного крестного хода под взывающий звон колокола, в просторном доме Михаила Григорьевича собрались родственники, кто мог. Разухабисто играла гармонь в клешнятых руках цыгановатого, всем подмигивающего Игната Черемных, плясали во дворе и в горницах.
На улице, уже в потёмках, судачили дряхлые старики возле своих ворот, сидя на скамейках в овчинных душегрейках, а кое-кто уже надел и валенки, хотя снега ещё не было.
— Ох, грехов накопилось, братцы! Ужель невзгоду ожидать оттоле, из Расеи?
— Откель ишо-то? От мунгалов али хунхузов каких? Тольки из Расеи-баламутки и жди всяких разных напастев.
— Не хули Россию: она ишо и тебе, и твоим детям да внукам сгодится. Её сожги огнём лютым, а она всё восстанет из пепла, вспоит и вскормит своих неразумных детей да и другим пособит, ежели чего…
У Охотниковых было принято, что все, кто целый год работал на них и вместе с ними, на благополучие их дома, на их семью и род, должны быть отблагодарены так хорошо, чтобы — не дай Бог! — никаких обид не было. Денег и припасов не жалели. Столы были заставлены закусками, четвертями, четушками с аракой, кувшинами с домашним — Любови Евстафьевны приготовления — пивом и Пахомовой медовухой. Кому что нравилось, то и пил вволю.
Михаил Григорьевич захмелел, раскраснелся; он был в праздничной красной рубахе, сам на себя не похожий, часто вставал, размахивал руками, пританцовывая:
— Плохо вам, люди, у меня живётся? — притворным строгим взглядом окидывал он застолье. — Недовольны хозяином? Смотрите мне!
— Что ты, Григорич!
— Премного благодарны, Михайла!
— Ты — хозяин-кремень…
Михаил Григорьевич куражливо-обиженно отворачивал лицо:
— Во-о-о! А чего же всякие Алёхины и другая шалупень плетёт про меня, что я-де мироед и шкуродёр?
Непьющая, стыдливо краснеющая и вся сегодня бдительная Полина Марковна, одетая по-будничному, дёргала супруга за рубаху или поясок, усаживала на лавку, шептала, озираясь:
— Сядь ты, птица-говорун! Расчирикался! Не смеши людей. Утром как будешь в глаза народу смотреть? Да кому сказала — замолчи!
— Цыц! — протестовал Охотников, игриво вырываясь из рук требовательной супруги. — Пущай люди скажут: мироед и шкуродёр я али кто?
— Али кто! Тьфу! — досадливо махнула рукой Полина Марковна, отворачиваясь от несговорчивого, упрямого мужа. — Стыдобища-то какая! Ленча, хоть ты устыди отца.
Но Елена отмолчалась. Дочери с того памятного поворотного майского дня было тяжело посмотреть в глаза отца, не то что обратиться к нему. Она была сегодня вся тихая, молчаливая, какая-то закрытая. Душу Елены грызли мысли о её беременности. О ребёнке, которого носила под сердцем, ещё никому не сказала, словно ожидала какой-то необыкновенной, но и неминучей перемены в своей жизни.
Снова со всех сторон урезонивали и успокаивали перебравшего — или притворявшегося таковым! — хозяина:
— Да цены тебе, Михайла, нетути!
— А ну-ка, Федька, налей по полной чарке всем: выпьем за здравие и всяческое благополучие Михайлы Григорича и его домочадцев!
— Мыхайла, ты — во мужик! Дай — поцалую тебя, чё ль!
— Я первая, я первая!
— Ну, всё — пропал мужик: вусмерть заласкают!
Хозяин, покачиваясь, прищуривался, мотал растрёпанной головой:
— Лукавите! — Но улыбка наивного самодовольства расползалась по его красному потному лицу. — Ой, лукавцы! Урежу вам оплату — сей миг, поди, благим матом заорёте: мироед, шкуродёр! А? Э, братцы: меня не проведёшь на мякине. Ну, наливайте по полной: за ваше здравие хочет хозяин выпить!
— Да сядь ты, балабол! — уже наваливалась на него Полина Марковна, всерьёз рассердившаяся на невоздержанного супруга. — Как сдурел нонче мой мужик, — оправдывалась она перед соседями по столу, жалко улыбаясь своим светло-молочным, рыхловатым лицом с глубокой поперечной морщиной на высоком лбу. — Уж вы на него особо не смотрите: лишку принял на грудь, дурень.
— Мы, Марковна, понимам, не гневись уж так шибко на свово мужика: с кем не быват! — за всех отвечала молодая Суходолова Татьяна, свинарка, сверкая весёлыми глазами. — Выпьем, Марковна, ли чё ли? Доброго-то в жизни больше, поди. Эх, гуляй, русская душа! Иде гармошка? Давай, Игнатка, музыку! Душа просит раздолья!
Черемных встряхнул овчинкой чёрных кудрей, нещадно растянул меха гармошки, запел, двусмысленно подмигивая женщинам. На середину горницы выбежала, притопывая каблучками белых щеголеватых сапожек, вскруживая пышный подол цветастого сарафана, Наталья Пенькова, красивая молодайка, недавно проводившая мужа на войну, работница Орловых, но нанявшаяся на сделье в свинарник к Охотниковым, потому что осталась одна с маленьким ребёнком на руках да со старыми, немощными родителями. Она в полный голос запела, насмешливо склоняя голову к Игнату:
— Я под твой зипунишко прячуся,
На твоёй груди утаяюся.
Ну, а ты, кобель ласковый,
На другу пучишь глазоньки…
И между Игнатом и Натальей завязалась с подначками и издёвочками песенная перебранка. Люди смеялись, хватались за животы, выкрикивали подсказки или сами пели, выручая, поддерживая того или другого песенного дуэлянта. Потом Черемных заиграл плясовую — затрещали сдвинутые столы и стулья, зазвенела посуда, зачеканили подковки сапог: народ повалил на середину горницы и пустился в пляс. Раздавался упоительный до самозабвения бабий визг, а мужики свистели, отплясывая и прижимая к себе раскрасневшихся женщин. Иван Охотников хлопнул в ладоши, игогокнул и пошёл вприсядку. Его жёлтая длинная рубаха-толстовка солнечно полоскалась между половодья юбок, сапог, туфель и тапочек. Даже не удержался хромающий на одну ногу Григорий Васильевич: зачем-то охорошил ладонью диковатую длинную бороду, подмигнул супруге и — вдруг свистнул звонко и озорно, вставив два пальца в рот. Кто слышал и видел, указывали на разошедшегося старика пальцем, ухохатываясь. Любовь Евстафьевна покрутила возле своего виска пальцем, но смеялась так, что не могла и слова вымолвить.
— Гляньте, люди добрые: сдурел мой хрыч! — задыхалась и утирала кулаком слёзы.
А Григорий Васильевич расправил по сыромятному ремешку широкую, выгоревшую на солнце холщагу, щеголевато притопнул хромовыми сапогами, словно пробуя крепость пола, подхватил за бок первую попавшуюся бабу, самым коварным образом ущипнул её за мягкое место и с ней же пустился в пляс, подскакивая, как молодой стреноженный конь.
Елена, точно чужая, тихо и сутуло сидела рядом с супругом. А Семён вёл какой-то деловой бесконечный разговор с пасечником Пахомом. Неожиданно её потянула за локоть Дарья.
— Чё скажу тебе, Ленча, — подмигнула Дарья. — Время скока?
— Смотри: одиннадцатый уже, — махнула Елена головой на большие часы с кукушкой.
Дарья притянула её к себе, обняла и жарко, заговорщицки шепнула:
— С десяти он дожидатся тебя за гумном — у набольшего зарода. Умолял, христовенький: «Всенепременно шепни ей…» Уж сама, дева, тепере решай.
Внутри у Елены враз и похолодело, и накалилось, и что-то оборвалось, а в сердце стало сладко-томно, онемело. Перед глазами покачнулось, голова — кругом. Однако Елена всё же сумела с притворным равнодушием сказать:
— Что ты, Дарья, несёшь: кто меня и где дожидается? — Но великий страх и великая радость, как на крыльях, унесли, казалось, её из горницы, из родного дома, и она уже видела его лицо, уже смотрела в его глаза.
— Тише ты, чумная, — шептала побледневшая Дарья. — Ой, чиво же я такое натворила сызнова? Чёрт во мне сидит. Ленча, не ходи! Слышь? Ить семью разрушаю, дура. Не ходи!
Но Елена, как пьяная, покачкой походкой вышла из-за стола, вклинилась в узорочное сплетение пляшущих и поющих, притопнула, взмахнула руками, однако ноги, казалось, сами собой повели к выходу. Рука сама собой потянулась к дверной скобке.
Дверь открылась, а Елена как бы удивилась: кто же открыл, если никого, кроме неё нет ни перед дверью, ни со стороны сеней? Остановилась. Оглянулась. Вот и свершилось то, чего долгие месяцы ожидала Елена! Верила и не верила, что когда-то он придёт за ней. Пришёл!
Неожиданно ярко и остро почувствовала: переступив порог, преступит и против всего того, что дорого её родным, всего того, что всё ещё дорого и ей; переступив порог — откажется и отвернётся ото всего прошлого, быть может, и от самой себя — такой, какой созрела к девятнадцати годам. Но переступив порог — войдёт в новую жизнь.