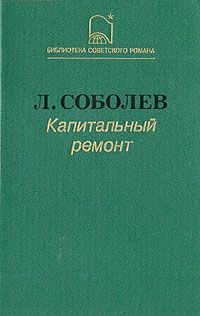— Залп, — сказал Ливитин негромко, и, рванув башню коротким кругообразным движением, как встряхивают остановившиеся часы, с его губ скатились еще десять тысяч рублей.
Таким же свойством был наделен мальчик из старой французской сказки: при каждом слове из его рта вылетала блестящая золотая монетка. Слова лейтенанта приносили значительно больше прибыли, хотя, казалось бы, он не созидал, а уничтожал деньги. Но уничтоженные словом «залп» десять тысяч рублей мгновенно породили возможность создать новые порох, снаряды и орудия взамен разрушенных залпом. Во многих концах страны и мира неизвестные Ливитину люди приступили к действиям: начали продавать, покупать, нанимать рабочих, составлять чертежи, выдумывать формулы, получать или давать взятки. Доллары, марки, рубли, франки и иены — море разнообразных денег, взволнованное всплеском снарядов, вздрогнуло, заколебалось, ринувшись в крутящуюся воронку взорванных десяти тысяч рублей, спеша создать вместо них новые ценности. Разноязычные рабочие хлопка, руды, угля, стали, кислот, зерна и леса проработали еще одну минуту сверх того времени, которое требовалось им, чтобы окупить хозяйские расходы на поддержание их существования. Созданные ими за эту минуту ценности восстановили утопленные лейтенантом Ливитиным десять тысяч рублей, и часть этой прибыли докатилась до него в виде лейтенантского жалованья.
Таким образом, получилось, что и этот новый круг обращения денег, неизвестный Ливитину, замкнулся в кормовой башне «Генералиссимуса» так же, как и кобяковский, с той только разницей, что Кобяков, нажимая педаль, уничтожал свои деньги и от этого обеднел, а Ливитин, уничтожая чужие, богател.
— Поражение через тридцать секунд, автомат два с четвертью сближения! — скомандовал Ливитин. Щит попал в накрытие, и стрельба могла быть ускорена.
«Генералиссимус», описывая плавную дугу вокруг щита, вспарывал носом изнутри голубое полотно воды, отворачивая форштевнем белые края разреза и размалывая его обрывки винтами за кормой. Гигантское и великолепное создание крупной индустрии двигалось по воде, непрерывно расточая деньги. Они вылетали из орудий в желтом блеске залпа, стлались по небу черными вздохами дыма из труб, растирались подшипниками в текучем слое дорогого заграничного масла, крошились, как в мясорубке, лопатками мощных турбин. Деньги таяли в воде, ибо корабль этот, выстроенный для защиты рублей от долларов и франков, устарел еще до спуска своего на воду: за время его постройки доллары и марки отлились в лучшую броню и лучшие орудия, против которых этот корабль уже не годился. Но сейчас, ослепленный собственной мощью, он громыхал залпами, медленно раскачиваемый силой отдачи своих орудий, величественный и огромный, как боевой слон.
Юрий, оглушенный грохотом, восхищенный и подавленный зрелищем стрельбы, раскрыв в полуулыбке рот, смотрел на все блестящими от восторга глазами. Чудесная вещь стрельба! Он начинал понимать то почти нежное чувство, с которым Николай всегда говорил о башне. Жаль, что так скоро кончается!..
Стрельба окончилась быстро. Одетые в форменки мужики и мастеровые, из которых каждый в своей личной жизни считал огромной суммой четвертной билет, за одиннадцать минут выкинули в воду полтораста тысяч рублей и по отбою вышли на палубу с равнодушным видом людей, которые закончили положенную им работу.
Стрельба оказалась удачной, и на мостике было весело. Корабль повернул в Гельсингфорс. Солнце спустилось к воде, зализывая длинными теплыми лучами шестьдесят восемь ран, нанесенных морю. Лейтенант Греве, сощурившись, посмотрел на безвредный сейчас для глаз красный сплюснутый диск.
— Повоевали — и за щеку! — сказал он Бутурлину. — К десяти на яшку станем, штурманец? А то у меня вечерок сорвется, нынче у Власовых на лужайке детский крик.
— Что-нибудь вроде, — ответил Бутурлин, вынимая из ушей вату, — полтора часа ходу, поспеешь…
Юрий забрался на сигнальный мостик. Оттуда море казалось огромным. Небо, исполосованное полетом снарядов, обильно точило теплую кровь заката. Вольный и прохладный воздух, чуть горчивший запахом дыма, расширил его легкие. Он вздохнул свободно и счастливо и в невольной потребности общения сказал сигнальщику, проворно натягивавшему на поручни снятый на время стрельбы обвес:
— Вечер-то какой, роскошь!
— Чего изволите, господин гардемарин? — не расслышав за шумящей парусиной, с готовностью спросил тот.
— Посмотри на закат, говорю… не видишь?
Сигнальщик бросил обвес и обеспокоенно повернулся к солнцу, подняв к глазам бинокль. Он провел им по горизонту, отыскивая, что именно привлекло внимание гардемарина. В бинокле алое поле дрожало и переливалось, вода мягко сливалась с небом в примирительном одноцветье, и ничего не было видно. Зато правее заката сигнальщик увидел то, что требовалось, и, отняв бинокль от глаз, с уважением посмотрел на Юрия.
— Так точно, адмирал идет, — сказал он и побежал на крыло мостика к сигнальному кондуктору.
Корабли сблизились быстро. Флагманский линкор шел на юг, полоща в закате контр-адмиральский флаг. На «Генералиссимусе» сыграли большой сбор, люди быстро выстроились по борту. Лейтенант Греве встревожился.
— Что ему надо в море в субботу? — сказал он вполголоса Бутурлину. — Не к добру старик заплавал, ей-богу…
Флагман разошелся с «Генералиссимусом» в полумиле; на фок-мачте его болтался полосатый флаг.
— Вашскородь, на адмирале «он» — «следовать за мной!» — прогудел сверху голос сигнального кондуктора.
— Лево на борт, — сказал командир, не удивляясь.
Корабль, зашипев кормой и раздавливая ею подбегающую к борту воду, легко повернул на обратный курс и вступил в кильватер адмиралу, привязанный к нему молчаливым приказанием. Гельсингфорс и все, что ожидало в нем лейтенанта Греве, осталось за кормой. Греве спустился с мостика и пошел на ют, задрав по дороге ударом сложенных пальцев чехол фуражки сзади, образовав из нее род поварского колпака. Офицеры на юте засмеялись. Такое положение фуражки обозначало: «недоволен начальством».
— Господа, Гревочка бунтует, — сказал Веткин, бросая папиросу в обрез (офицерам курить на юте разрешалось).
— Старый дурак, — пожаловался Греве с искренним огорчением. — Ну куда он к черту повел? В Ревель?
— Гревочка, пути начальства неисповедимы, — сказал Веткин примирительно. — Учитесь властвовать собой: ваше свидание не состоится! Пойдем лучше пить коньяк, я выиграл с батюшки, он утверждал, что адмирал оставит нас в покое.
— Пойдем, — сказал Греве обреченно, — здесь уголь сыплет.
Палуба хрустела от угля, выкидываемого с дымом из труб. В кочегарке выла вентиляция, и через определенные промежутки времени раздавался звонок. Тогда кочегары распахивали топки, и жар разливался по палубе горячей, вызывающей пот волной. Езофатов, стоя боком к топке и защищая лицо привычным поворотом головы, швырял очередные лопаты угля на ломкий пласт раскаленного жара. Топка захлопнулась, и Езофатов выпрямился.
— Время сколько там, Вайлис? — спросил он, осторожно обтирая обратной стороной ладони рассеченную утром щеку.
— Около десяти, наверное.
— Когда якорь кинем, не знаешь?
— У меня была глупая тетка, — сказал Вайлис, помолчав и ловко вытащив из глаза черным пальцем угольную порошинку. — Она умерла от любопытства. Она все добивалась узнать, которого числа будет второе пришествие…
— О чем ты мелешь?
— Откуда я знаю, деревянная башка? Позвони по телефону господину старшему механику!
— А куда идем-то? Обратно уже?
Вайлис даже не ответил, всматриваясь в водомерное стекло. Кочегарка не имеет направления. Она имеет только время, измеряемое звонками топочного уравнителя и числом подбрасываемых лопат. Корабль может стать на якорь, может идти в Америку, может идти ко дну, — кочегарка узнает об этом последней. Глупые вопросы!..
В двенадцать часов ночи четвертое отделение кочегаров сменилось. Усталые и злые, они поднялись в жилую палубу; койки уже висели рядами в зеленом свете ночных ламп, и воздух был тоже ночной: жаркий, вонючий, сытный.
Вайлис, вымывшись в бане, вышел наверх покурить. Корабль стоял на якоре, молчаливый, огромный, неподвижный. Берегов в неясной мгле майской ночи не было видно. Вода была светла. На ней равномерно вспыхивала зеленая мигалка бакана, справа горел красноватый огонь маяка, слева угадывалась громада такого же корабля, и высоко в небе горел адмиральский огонь. Название этого места было неизвестно. Не все ли равно? Ничто не меняется от того места, где стоит корабль.
Ночь пела жужжанием вентиляторов, звоном стекающей где-то за борт воды, с берега тянул легкий печальный аромат северной весны.
— Не спится, небось? — сказал кто-то рядом.