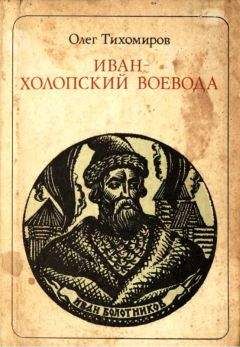— Надобно еще пушек привести да обстрелять город, — сказал Скопин-Шуйский.
— Нет, князь, так Ивашку не выкуришь. Да и пушки скоро не доставишь. То-то… А посему вот мой сказ: вступаем с Болотниковым в переговоры. Коли сдаст Тулу, всем обещаю помилование.
— Как? — взметнул брови царев брат. — Всех простишь? И вора Ивашку, и Лжепетра?
— Я сказал, всем будет обещана жизнь и воля.
— Пошто, государь, всем? — спросил князь Голицын.
Шуйский протяжно произнес, морща лоб:
— Обе-ещано… Понял? Иначе ворот не откроют. — Царь встал с места. — Народишко с норовом подобрался.
Послать в Тулу на переговоры решили боярина Крюка-Колычева, видом достойного, умом сметливого, воеводу бывалого.
* * *
Вожаки восстания так и эдак судили условие, что привез Крюк-Колычев.
— Отсидимся, чего там! — молвил «царевич Петр». — Государь Димитрий Иоаннович, дядя мой, на подмогу идет.
— Сидеть нам не след, — заметил Телятевский. — По мне, так уж лучше пробиваться навстречу с царем Димитрием.
— Коли Шуйский обещанье дает… — подал голос Никита Шишов и, замолчав, обвел всех сторожким взором.
— Говори дале, что тянешь? — произнес Болотников.
— Скажу… Не к лицу ему пустыми словами играть. Государево слово весомое…
— Не смей, воевода, — заговорил Иван Исаевич, — нарекать государем Шуйского. А ежели он обещанье дает, должны мы допрежь всего помнить, полуцарь хитер, как старая лиса…
— Отсидимся, — повторил «царевич Петр».
— Но и сидеть здесь, — продолжил Болотников, — верная погибель. В амбарах пусто. Люди падаль едят. Покуда подмога подоспеет, перемрем все. Коли мы с войском из Тулы уйдем, сбережем людей. А нынче биться с Шуйским не с руки: у него против нашего сил впятеро больше.
— К чему клонишь, гетман? — спросил Телятевский, — коли одно и другое негоже?
— А на том стою, чтобы войско сохранить. Пусть полуцарь клянется, пусть крест целует, что сдержит обещанное. Тогда приемлем условие.
В лагерь к Шуйскому вместе с Крюком-Колычевым приехало несколько атаманов, среди которых находились Шарапа и Никита Шишов. От воинов были посланы Михей Долгов и пушкарь Иван Фомин.
Много раз бывал Михей в сечах и сражениях, а тут чего-то боязно стало. Да и как не сробеть: к самому царю едет. Хоть и говорят, что Шуйский полуцарь, а все ж на троне московском сидит. «Дело сурьезное, — думал Долгов, — Иван Исаич велел в оба глядеть, не оплошайте, мол, не то обманет вас Шуйский…»
Михею думалось, что будет царь кричать грозно, по Шуйский встретил всех милостиво, к обеду позвал, смотрел по-доброму. После обильного застолья повел Шуйский речь. Из его уст услыхали посланцы: обещана всем жизнь и воля, пусть, мол, только сдаст Болотников Тулу.
Внимал Михей, а сам диву давался: почему воеводы лишь кивают в согласии, а про крестное целование никто и не скажет?
Шуйский разговор уже на другое свернул: звал атаманов к себе на службу да и холопам с мужиками сулил блага всякие. Тут решил Михей слово молвить. Встал он, низко поклонился:
— Ты прости меня, государь, и дозволь сказать.
Подумал царь: никак смерд на посулы клюнул.
— Говори, — разрешил Шуйский.
— Велено нам было, государь, увидеть, как ты клятву даешь и крест целуешь. Без того слушать нас Иван Исаич не станет.
Еле сдержался царь, чтоб не крикнуть: «Гей, взять его! Голову — прочь!» Но совладал с собой.
— Не станет, — подтвердил один из атаманов, — без крестного целования. Доподлинно, не станет. — Он смотрел на царя осоловелыми глазами, изо всех сил борясь с подступающей дремотой.
И других тоже в сон клонило после сытой еды.
— Будь по-вашему, — сказал царь, — но сперва проспитесь. Клятву потом дам.
Почивать развели посланцев по отдельности. Шуйский задумал склонить их подкупом до посулами на свою сторону. Но понимал, не все на это пойдут, а потому хотел, чтоб с каждым поговорили с глазу на глаз.
Никиту Шишова, Шарапу да еще двоих атаманов царевы люди подкупили без труда, остальные воспротивились.
— Иван Исаич, — сказал Михей, — мне как отец родной. Нешто могу я отца родного предать?
— Знай же, дурень, — уговаривали его, — Болотников сам в услужение к государю Василию Ивановичу поступит.
— Неча напраслину нести, не таков у нас Иван Исаевич, — ответил Долгов.
— Смотри, олух, опомнишься, да поздно будет, — грозили ему. — Не сносить тебе головы.
Назад посланцы возвращались радостные: царь дал при всех торжественную клятву и целовал крест, что выполнит обещание.
* * *
10 октября 1607 года Тула открыла ворота.
Болотникова и «царевича Петра» сразу пригласили к Шуйскому. С ними поехали и те атаманы, что были подкуплены. По дороге предательски накинулись на Ивана Исаевича и «Петра», повалили, связали. Так, пленниками, они были доставлены царю.
— Что, воры, попались? — усмехнулся Шуйский.
— Клятвопродавец! — с презрением глядя ему в глаза, сказал Болотников.
— Всыпать батогов! — Шуйский сделал знак челяди. — Да рты позатыкайте, чтоб все втихую было.
Открыто расправиться с вожаками царь не посмел: мятежные отряды были при оружии, да и свидетели здесь находились, видели, как он крест целовал. Предатели-атаманы распустили слух, будто Болотников и «Петр Федорович» у царя гостюют, а войску, мол, приказано расходиться восвояси.
По всем городам Шуйский разослал грамоты. Говорилось в них, что тульские повстанцы били челом государю, признали свою вину и город добровольно сдали. О царском условии в грамотах не упоминалось. Зато было сообщено, что вор и разбойник Ивашка повинился и своими руками выдал самозванца «Петра».
Шуйский не стал задерживаться в Туле, уехал в Москву. Вскоре туда были привезены в оковах Болотников и «царевич Петр».
— Илейку Муромца повесить у Данилова монастыря, — распорядился царь.
Болотникова он не решался казнить. Приказал тайно отправить в Каргополь, а людям, которые должны были его туда доставить, пригрозил:
— Ежели кому проговоритесь, велю языки вырвать.
Под сапогами стражников скрипел снег. Болотников шел босиком, но холода не чувствовал. Его, подталкивая, вели за палку, к которой были привязаны обе руки. Куда ведут, не видел: шагал в кромешную тьму.
Месяц назад он сбил с ног двух охранников и бросился по ступенькам прочь из глубокого каменного подвала, в котором сидел, потеряв счет дням и неделям. Охранники не ожидали, что прикованный цепью к железному крюку узник кинется на них. Но он сумел расшатать и выдернуть крюк из стены. Так и бежал с цепью и крюком на руках. «Держи!..» — неслось снизу.
Распахнув дверь, он на миг остановился, пораженный ярким дневным светом.
Болотников был схвачен и жестоко избит. И раньше его били на допросах: «Куда дел награбленное?» — «Отдал», — говорил он, выплевывая зубы. «Кому?» — «Всем, кто был со мной». Потом ему выкололи глаза.
Сейчас он шел и не ведал, ночь на дворе или день. Прислушивался… Вот коротко, по-зимнему, тинькнула синица. Значит, днем повели. А куда?.. Переводят его в другое место? Зачем?.. С допросами и в подвале хорошо управлялись заплечных дел мастера. Синичка опять пропела «тинь-тинь». Болотников представил пичугу: верткая, желтобокая, с черной полосой на грудке. Он повернул голову в ее сторону: кроха вольная, спой еще. Там, в подвале, тишина мертвая, ничего, кроме мышиного шороха, не слышно. Как же славно поешь ты, синица… Где ты? Почему замолчала?
Опять лишь скрипит снег. Но вот стражники остановились, отвязали палку. Будь Иван Исаевич зрячим, увидел бы, что стоит на запорошенном льду Онеги. Перед прорубью.
В наступившей ненадолго тишине раздался сорочий треск. И вдруг Болотников ощутил доподлинно — пришел конец. Его толкнули в бок:
— Говори, где схоронил?..
На шею надели петлю. «Вешать будут», — подумал Болотников. Не знал он, что к концу веревки был привязан мешок, куда лишь оставалось положить камень.
— Скажешь, царь помилует. У тебя ить было золото? — допытывались стражники.
— Было, — с трудом вымолвил он. — И кой-чего подороже было. Дал — им…
— Кому дал?
— Людям… — И покачнулся от удара палкой.
— А чего ж ты им дал дороже золота?
— Воли вкусить… Кто раз вкусил… на всю жизнь запомнит. И детям своим… передаст.
— Молись, вор.
— Прости меня, господи… — Болотников совсем беззвучно зашевелил губами: «Сорока, сорока, облети людей, обнеси вестью… Они меня помнят…»
— Не кайся, ирод. Все равно в ад провалишься.
— Помнят… — произнес он громко.
В мешок опустили камень.
— Кончай его!..
Один из стражников с силой толкнул Ивана Исаевича. Прорубь плеснула водой и застыла — черная, бездонная…