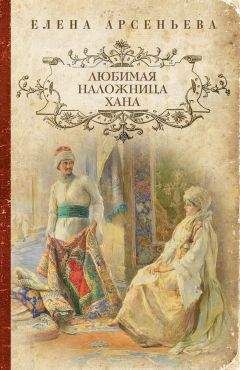Достал государь из ларя сосуд, запеленутый в синюю крашенину, и, приблизив его к свече, долго любовался кубком, где на стояне отлита из золота святомученица Екатерина. После старательно записал в столбец, находя живою каждую буквицу: «Жонка золочена литая, на голове венец, в левой руке книга, возле ее полколеса со спицами».
Из шести прошаков, приставших к Казанскому собору на постоянное кормление, пророчица Анисья слыла особенно крутой и нравной. По словам Аввакума, бесы ее грызут. Вопль нищенки: «В ад толпою... заждались вас тамотки... в ад всех» далеко слышался с паперти и побуждал богомольцев, перемогая испуг, толпиться возле старухи. Была она коренастой, с мужскими плечами, в дырявой ряднине, сквозь прорехи откровенно смотрело на мир ее нагое, остамевшее от стужи тело; старуха ширилась на еловом пеньке, как выскеть, загораживая собою дорогу в собор, и всякому прихожанину невольно приходилось протискиваться подле нищенки. Анисья норовила зло пригвоздить ключкою в ступню богомольца: ореховая палка с медным крестом в вершинке в основании кончалась стальною пикой, и этим осном пророчица с постоянством метила в ноги, отчего-то всегда промахиваясь. Протопоп Юрьевский Аввакум, помогавший в службе Иоанну Неронову, не раз пытался смирить нищенку, прилюдно волочил за седые космы по паперти, и старуха, брызжа слюною, кричала, не жалея луженой глотки: «Кобель, бесстыжий кобель, страмник. В аду-то ужо припекут, страмник».
...Обедня кончилась, и московский люд степенно повалил из храма, обертываясь к образу Богородицы, висящему в печурке над дверьми, молясь истово и земно кланяясь Госпоже. После, почитая за правило, всяк норовил подать пророчице деньгу или полушку, но Анисья брезговала милостынькой и, сквернословя, отталкивала руку. И всякая бабенка, конечно, полагала себя счастливою, если пророчица принимала Христа ради. Вот и сейчас, запрокинувши до предела лицо и щурясь обметанными лихорадкою глазами, она взывала яростно, ненавидя всех: «С вами не стакнувся на поддельных. Хотящий меня купити, растлен бысть на огненном ложе...»
Боярыню Федосью Прокопьевну Морозову плотно окружали хоромные девки, чтоб ненароком посадские жонки не навредили, не оприкосили госпожу: спела молодая жена и ждала чада. Одесную от боярыни шел старый кривой слуга с замшевым кошелем: Федосья запускала руку и подавала милостыню. Пророчице боярыня подала копейку серебром; нищенка повертела, попробовала на зуб, плюнула на царское титло и швырнула с паперти. Вроде бы людно было подле собора, но звон серебряной копейки услыхали все и, как по оклику, замерли, ожидая зрелища. Федосья вздрогнула, гневно вскинула голову, румянец схлынул с крутых скул.
«Чего уросишь, кобыла брюхатая? Нендравно-о, еюш-ки, охтемне – чушки. Всем златом-серебром не вымолишь у меня рая. Сблудила от змея змееныша».
Нищенка, наверное, сама своих слов напугалась, споткнулась и выжидающе вперилась взглядом в неживое Федосьино лицо.
«Ну ты, ну ты, нищебродка. Я тебе язык-то поурежу», – наскочил на прошачку кривой слуга, но Федосья отстранила его, склонилась над старухою, всматриваясь в синюшное от страданий лицо с паршою на водянистых губах.
«Ты за что меня так костишь, тетя Анисья?» – спросила боярыня нищенку полушепотом, так что и девки хоромные, поди, не разобрали. Вздрогнула и расплылась белесая муть в глазах прошачки, в их глубине заметалось что-то живое, покорное, ждущее прощения, и вдруг увидала Федосья, пусть и на мгновение, бабью тоску. И сразу замирилась молодка и суеверно перекрестилась. – Ты за что меня прикосишь, старая? Я ведь сына жду. Молись ежедень за меня Христосику. – Федосья, принагнувшись, помиловала нищенку по волосяному колтуну, жалостливо, уже чуя себя матерью, стянула на старухе полы зипуна, запахивая от вешнего ветра отвисшую нагую грудь. Анисья вяло отпехивала Федосьины руки. Боярыня, не брезгуя, поцеловала медный крест на посошке пророчицы, снова подала копейку. Старуха примерилась к серебру, выжидающе взглянув на боярыню, и положила копейку в рот.
«Чего зыришь глазами-то? – спросила она непокорно. – Из лайна злато, из злата лайно. Угадай! – Она сварливо пожевала синюшными губами; Федосья чего-то медлила, челядь ждала, окружив каптану; гнедые лошади, увешанные собольими хвостами, нетерпеливо звенели висячими серебряными поводьями. – Из серебра ешь, девка, а жадишься. Я б тебя на рог посадила, да Бог не велел. У скупых рога на лбу растут, у добрых – куст золотой». Анисья так приметливо взглянула на боярыню, что той невольно захотелось дотронуться до лица. Она давно невзлюбила эту старуху, но упорно бывала в Казанском: то ли выслушать проповедь Неронова, то ли отповедь Анисьи...
Взять бы и пойти... Вот и челядь заждалась, тоскует дворня: пора ествы, а еще до усадьбы не попали, и повара без хозяйки спали, поди, и господин все жданки съел; нынче, вот, по приказу государя, в Литву собрался. Ну что ж ты, хозяюшка, какого наказа ждешь, или милости, иль прощения? Под твоим началом Россия вся, всяк твой взгляд ловит, так что закодолило тебя, милая?
Вдруг вспыхнула боярыня, капризно скривила наспелый, готовый пробрызнуть кровью припухлый рот с каштановым приметным пухом над верхней губою; на круто вздернутом, с крупными ноздрями носу вдруг высеклась и пропала странная морщинка; лицо юной боярыни стало мужиковатым и злым. Хорошо Глебушка, Глеб Иванович не подсмотрел ее такою. Не владея собою, боярыня ненавистно заторопилась прочь, кляня себя за недавнюю слабость; ей хотелось прилюдно сплюнуть кисловатую медную горечь, скопившуюся во рту от того поцелуя. А нищенка, привстав с колоды, раскинула по-вороньи костлявые руки и загарчала вдогон боярыне на всю соборную площадь: «Вот ужо, погоди! И я была не оборка от лаптя! Со мною вровень встанешь на карачки, дак вспомянешь Аниську! Еще приползешь ко мне за милостыней!»
По приступку, обтянутому червчатым бархатом, Федосья гордо вошла в каптану, комнатные девки по-мужски уселись верхи на конь; челядь с палками наизготове окружила боярский поезд; Федосья задернула слюдяное оконце тафтяным запоном, прижалась к стене избушки, призакрыла глаза; дернулись с напрягом слегка пристывшие полозья, в чреве боярыни ворохнулось, позвало, истомою обволокло тело; слабея, Федосья вяло присдвинула запон, в щель украдкою отыскала взглядом соборную паперть; нищенка Анисья сидела на колоде неряшливо, как куль дерюжный, бесстыдно заголив ноги, и тупо зевала; вдруг посыпал ситничек из прозрачно-голубого небесного половодья, он пролился на Москву, как мелкий речной скатный жемчуг, и нищенка, наряженная в эти завески, на миг осветилась вся, стала прозрачною.
«Ой, дура я, дура... Чрез нее на мои вины Бог указует», – запоздало, с раскаянием подумала Федосья и смежила веки.
Грешно гневаться на унывного лазаря: ты его обогрей, с собой за стол усади да спать уложи, памятуя – богатым серебро дарует Бог нищих ради.
Всяк на Руси сызмала помнит, как Исусову молитву, что нищие – это краса церковная, Христовая братия; а тихомирная милостыня введет в Царство Небесное, в житье вековечное.
От сумы да от тюрьмы не зарекайся.
Много путей к богатству, но к нищете – один.
Чужую нищету не поймешь,
Пока сама тебя не запряжет.
Блаженны нищие духом.
Нищий силен смирением, богат нищетою.
У нищего один заступник – Господь Бог.
«... Спроговорит Христос да Царь Небесный:
– Не плачьте-тко, нищая братия,
Не рыдайте, убогая сирота;
Оставлю вам гору да золотую,
Оставлю вам реку да медовую,
Оставлю вам сад с виноградом,
Да будете вы сыты и пьяны,
Да будете обуты и одеты,
А от темной-то ночи и укрыты...»
Ниже нищеты – смерть: нищий помирает на седмице не единожды и вновь воскресает, чтоб помянуть Христа.
Нищий богатым питается, а богатый молитвой нищего спасается.
Милостыня нищему – соломинка через ад. Так будьте же, люди добрые, милостивы к сироте. Не гневайтесь, не гнушайтесь нищего, ибо в его слезах алмазом блещет слезинка Христа...
Всякий неоприюченный прошак для русской деревни великий грех; ежели заведется такой из погорельцев, иль из военных калек, иль по здоровью убогонький, иль изжитый сирота-бобыль, иль вдовица в преклонных летах – они для деревенского мира, как Христовое дитя, не могущее себя обслужить и требующее присмотру. Но коли заведется в сельце забулдыга какой, огоряй, распьянцовская головушка, кабацкий ярыга, иль конченый вор, иль последний шалтай-болтай, у коего от лени руки отсохли, а мир на истину не сможет настроить, то бери ключку подорожную и шагай в бродяги. Если дорогою не перекинешься в шпыни, зеленые братья, то на твоем пути падется Москва, она и подберет. От многих денег в престольной всегда нищему кроха перепадет. Любит купчина милостыней дорогу в рай мостить.
Изрядно таких подорожников завелось после смуты, польское нашествие, самозванцы и долгое лихо согнали насельщика с пашни, ввели в прелести пьянства и разбоя, кому кабак стал домом родным; кормится такая забубённая головушка с татьбы, с кистеня да топора по угрюмым лесным тележницам, пока-то не захватит врасплох стрелецкая вахта; после распишут спину кнутовьем на козе, вырвут ноздри, окорнают руку, чтобы не тянулась за чужим; а там и старость не за горами, и некуда грешнику пришатиться, приклонить бедную побелевшую голову, и тогда один тебе путь – в прошаки, в богадельню, на паперть. Ежели был ты мужиком с ярой головою, да с норовом, да при каменном сердце, то при печальном конце ты иль в злодеях пропадешь, иль в омуту с водяным обручишься, иль в Разбойном приказе сгниешь – но не живать тебе в прошаках. Для милостынщика нужно особое нутро, склонное к плачу. Пускай и много на твоей совести чужой пролитой кровушки, но душа-то живет, поминая Господа, слезится и жалобится; вот и вставай на пространный путь Христа ради, одевай через плечо на веревочной лямке зобеньку для кусков, вспоминай полузабытые молитвенные стихи, настраивай на жалостливую струну издерганный, простуженный голосишко – и поди в народ. Народ не жалует, пугается отчаюг, кто оторви да брось, но всегда приветит Христовенького братца.