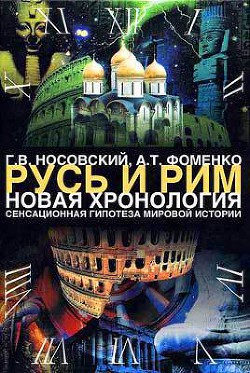не сломавшиеся, и тут, на вольных землях, куда еще не дотянулась рука Великого князя, ладят городище и тыном высоким обносят. При надобности не спустят обидчикам. Как и в прежние леты, не отступят от стремления жить по старому свычаю. Меж мужей оружных и жены умелы в воинском деле. И это от старого свычая. Говорил Будимир, и в войске Святослава сражались русские жены бок о бок с родимыми и умирали, восславляя Победу. Ах, если бы вернуть время Святославово! Иль не наладилось бы на любезной отчине?»
Чувствовал Могута, что-то еще лишь зоркому глазу приметное надвигается на Русь, страгивает в душах хотя пока и не сильно, как бы даже с краю. Но кто скажет, что ожидает во дне грядущем, не восстанет ли он из пепла чуждым русскому духу? Знал князь, лики Богов, поднятые Владимиром в Киеве, слезьми умываются. Про это и на всеполянском Вече говорено людьми не последними. Ну, а проку? Не вняли сему княжье разное и мужи. Посмеялись только и запамятовали. И зря. Сам Могута, когда слух об этом долетел до Оковских лесов, не преминул облачиться в странничье одеяние и пуститься в путь-дороженьку. Потому и скрытность такая, что гневаются на него на великокняжьем дворе, повелено, коль выпадет повстречать отбившегося от власти и принимающего в лесах побродяжный люд, схватить провинного и доставить в узилище.
Случилось это, когда гулял по земле снежный просинец, закутывал в белое дерева и крепко держал подо льдом реки и озерца, небо избеливал. Приятно было смотреть на дальние звезды в ночи — души умерших, еще не обретших себя в перерождении, словно бы прибавилось в них яркости, от этой яркости на сердце становилось не то чтобы сладостней, скорее, щемяще сладостней и — неспокойней. Верно что, неспокойней, думалось: как же ты мал, человек, почему бы тебе тогда и вовсе не отринуть свои устремленья и не оборотиться ликом к божьему свету, вдруг да и примет в теплое лоно свое. Но что-то в человеке противится этому, и он не сдвинется с места и еще долго пребудет в томительном, на краю двух миров, недвижении.
Могута шел тогда по деревлянскому лесу, устало опираясь на посох: уж которую ночь он обходился без сна, что-то все подалкивало его, подгоняло. И вот, миновав сторожу, он оказался в стольном граде, а потом и возле святилища. Недолго медлил, втиснулся в примолкшую многорядную толпу. В ней можно было встретить и густо обросшего темнорусым волосом дреговича в накинутой на плечи медвежьей шубе, и вольного жителя далекой Тмуторокани, смуглолицего, с дерзкими темно-синими глазами, в высокой, лихо заломленной на бок барсучьей шапке, и заднепровского мастерца, широкоскулого, темнобрового, только и помыслишь, что из северян. И прочего разного люда хватало тут, но среди них не отыскалось ни одного знакомца Могуты. За последние леты он много троп истоптал, подобно Будимиру, и с добрыми людьми, и со злыми, а то и просто не принимающими его душевную голготу сводила его судьба. И хорошо, что не увидел ни одного знакомца, облегченно вздохнул и решительно расчистил себе дорогу в толпе и очутился перед ликами Богов. Глянул в недвижные их глаза и помстилось, как и многим близ него, что плачут иные из Богов, и слезы те светлы и тягучи, стекают по каменным ликам и упадают на землю, подобно каплям дождя. И это в просинец, когда разгонял облака лютый, с вольной степи ветер, когда и небо прозрачно сине и холодно. Сделалось Могуте пуще прежнего осиротело на сердце, и возроптал он в сей миг, но не той огрубелостью, что нередко восставала в нем и трудно было совладать с нею, теперешнее возроптание другого свойства, как бы даже тихое и скорбное. И подумал Могута с тоскою: «Что-то вещают Боги… Не про беду ли, которая затронет на русских землях живущих и обольет их горькой мукой?..»
Сник Могута, сказал тихо, для себя только, жгучей болью слова опаленные:
— Ах, Владимир, Владимир… Почему же ты рвешься в провозвестники смуты? Или в твоей крови не от крови Святослава, буй-тура, высокочтимого и поныне? Или не от отца к сыну тянется нить сердечной укоренелости?..
Могута полагал, что никто не слышит его, ан нет, Будимир, утратив зрение, зато обретя остроту слуха (он ныне и в шевелении травы улавливал никем не примечаемое, слабое и грустное), услышал, но не подал виду, лишь посочувствовал князю, понимая его. Все же спустя немного он заговорил о памятном для каждого русского человека Аскольдовом времени, и было это не то украшенное яркой фантазией сказание, не то песня, допрежь легшая на сердце, а теперь выплеснувшаяся из него. Были в сказании-песне слова о добром мире меж племенами, когда никто не позволял себе подняться над другими и править в единоначалии. Тогда и Великий князь исполнял волю Совета, в который входили светлые князья и посадники, белая волхва и гриди от старшей дружины, сидели сии мужи по думским лавкам бок о бок. Но все поменялось с гибелью Аскольда, затаилась в племенах смерть, а потом вытолкнулась и пошла бродить очумелая по городищам и осельям, весям: Олег убил князя дреговичей Дмира, в его владениях воздвиг остережье, чтобы вязать свою волю болотным витязям, но из Запорогов пришел лихой посадник с немалым войском и потеснил Олега, и быть бы ему биту, да помог деревлянский князь Рославль, он отправил к Олегу Уветича со дружиной, за что в близком времени и возблагодарил его варяжский князь, свергши со Стола, а на его место посадив Уветича. Но скоро стрела, травленная зельем, догнала и Олега. Это когда он отправился в Ладогу поклониться праху чтимых им мужей. Толковали в племенах скрытно от чужого уха, что-де та стрела была пущена Игорем. Может, так, а может, нет, все на земле временно и подгоняемо ветром, куда подует уже и заполдень, одному Роду известно. Только это и есть истина.
И сказал Мал на великом Совете, когда оттризновали по Олегу три дня и три ночи:
— Всяк да княжит в своих владениях и никому не бысть вознесенну над братьями!
По реченному и утвердилось, только ненадолго. Игорю тесно стало в Киеве и сказал он Малу:
— Ты нож у моего сердца!
И тогда началось смертоубийство меж родственными племенами, и кровь полилась обильно, и не было удержу княжьему неугомонью. Но настало время, и Мал не пожелал и дальше губить людей и вышел из Искоростеня, и был отправлен во владения вятичей вместе с сыном Могутой и долго жил