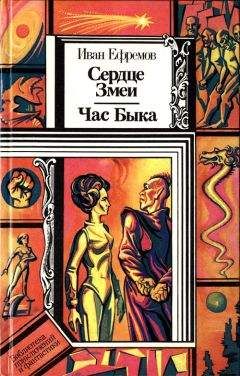— Нет, слушаю. Но ты все говоришь о том, кто в него вошел, а сам-то, сам-то он кто? Или просто злодей?
— Нет, не злодей. В том-то и хитрость диавола, что не в злодея вошел, а в святого. Погибает земля в войне братоубийственной, нивы запустели, житницы разграблены, кожа людей почернела, как печь, от жгучего голода, матери варят детей своих в пищу себе, и это все сделал он, святой. И хуже сделал: Бога убил. «Нет Сына, сказал, я — Сын!»
— Никогда, никогда он этого не говорил! — воскликнула Дио, и глаза ее загорелись таким огнем, как будто и в нее вошел Сэт. — «Не было Сына — Сын будет» — вот что он говорит. Был или будет, был или будет — в этом всё!
— Проклят, кто говорит: Сына не было! — сказал Пентаур и побледнел.
— Проклят, кто говорит: Сына не будет! — сказала Дио, тоже бледнея.
И оба замолчали — поняли, что прокляли друг друга.
Он закрыл лицо руками. Она подошла к нему и молча поцеловала его в голову, как мать целует больного ребенка. Вгляделась в лицо его, и вдруг опять почудилось ей, как давеча, что на нем — знак смерти:
Ныне мне смерть, как мирра сладчайшая,
Ныне мне смерть, как выздоровление,
Ныне мне смерть, как дождь освежающий,
Ныне мне смерть, как отчизна изгнаннику!
Хнумхотеп был человек справедливый и богобоязненный.
Дио принял он в свой дом как родную, не потому, что ей покровительствовал могущественный вельможа, Тутанкатон, а потому, что сами боги покровительствуют изгнанникам. Будучи главным начальником Амоновых житниц, мог брать взятки, как брали все; но не брал. Когда святилище Амона закрыли и Хнумхотеп потерял свою должность, он мог получить другую, лучшую, если бы изменил вере отцов; но не изменил. Мог продавать, во время голода, за какую угодно цену хлеб из земель своих в Стране Озер, Миуэр, не потерпевших от засухи; но продавал его дешевле, чем всегда, и целую житницу роздал голодным. Так жил он, потому что помнил мудрость отцов: «Жив человек после смерти, и все дела его с ним»; помнил две чаши весов: на одной — сердце умершего, а на другой — легчайшее перо богини Маат — Истины, и зоркое око бога Тота, Измерителя, следит за стрелкой весов.
В молодости он сомневался, не лучше ли краткий день жизни, чем темная вечность, и не правы ли те, кто говорит: «Умер человек — как пузырь на воде лопнул — ничего не осталось». Но к старости все больше узнавал — осязал, как рука осязает завернутый в ткань предмет, что там, за гробом, что-то есть, и так как никто не знает, что именно, то проще и умнее всего — верить, как верили отцы.
Хнумхотепу — Хнуму — было лет за шестьдесят, но он не считал себя стариком, надеясь исполнить меру человеческой жизни — сто десять лет.
Лет сорок назад начал себе строить «вечный дом» — гроб, на Горе Запада — Аменти, тоже по завету отцов: «Гроб себе готовь прекрасный и помни о нем во все дни жизни твоей, ибо не знаешь часа, когда придет смерть». Сорок лет рыл в скале глубокую пещеру-гробницу с подземными ходами и палатами, украшал ее, как брачный чертог, и собирал в ней душе своей, невесте, приданое. Делал все это весело, потому что сказано: «Гроб, ты сделан для празднества; ты вырыта, могила, для веселья».
В тот послеполуденный час, когда на плоской крыше Хнумова летнего дома беседовали Дио с Пентауром, — на другом конце большого пруда, у зимнего дома, в легкой, деревянной, на четырех столбиках, беседке сидел Хнум в резном из черного дерева кресле с кожаной подушкой и подножной скамьей, а рядом с ним, на низеньком складном стульце, — жена его, Нибитуйя.
На обоих были одежды-рубахи; узкая, в обтяжку, длинная, по щиколку, на ней, а на нем — пошире и покороче; обе из белого, мелко плоенного льна, не слишком прозрачного, как пристойно людям пожилым; ноги босы: кирпичный пол беседки был устлан для теплоты циновками, и мальчик-слуга держал наготове папирусные лапотки.
Сняв парик с коротко подстриженных седых волос, Хнум повесил его рядом с собой на деревянный болванчик — мужчины снимали парики, как шапки; а на голове Нибитуйи он возвышался, огромный, черный, глянцевитый, точно лакированный, с двумя, по бокам, толстыми, туго закрученными и закинутыми за уши жгутами, загибавшими тяжестью своею уши вперед, что придавало сморщенному личику старушки сходство с летучей мышью.
Хнум был так высок ростом, что маленькая Нибитуйя казалась перед ним почти карлицей; прям, сух, костляв, с жестоким, точно из твердого коричневого дерева выточенным, угрюмым и как бы злым лицом; но когда он улыбался, оно становилось очень добрым.
В будни, с утра до вечера, хлопотала Нибитуйя по хозяйству, в ткацких, швальнях, стряпущих и портомойнях, а в праздники, как сегодня — день лунного бога, Хонзу, — давала себе отдых за легким и в то же время богоугодным делом. На круглом, низеньком столике стояли перед ней два горшочка и две кошелки; из одной вынимала она мертвых жуков, жужелиц, бабочек, пчел, кузнечиков, вспарывала им брюшки кремневым ножичком и, зачерпнув из одного горшочка на костяную ложечку каплю аравийской камеди, а из другого — ливанской кедровой смолы, умащала покойничков; пеленала их в белые льняные пеленочки, как настоящие мумийки, и клала в другую кошелку. Все это делала проворно и ловко, как привычное женское рукоделье. В саду была песочная горка Аменти — Вечного Запада — кладбище для этих мумиек.
Перед Хнумом сидел на полу, скрестив ноги, человек средних лет с веселым и хитрым лицом, писец Межевого приказа, Иниотеф — Иний, управитель Хнумовых земель, стряпчий и ходок по делам. Он был в одном переднике; туловище голое; у пояса чернильница, за ухом писчий тростник, в руке папирусный свиток со счетом только что доставленных по реке, на баржах, хлебных кулей с Миуэра.
— Когда пришел указ? — спросил Хнум.
— В ночь, и должен быть исполнен сегодня же, солнце да не зайдет в непослушании царю, — ответил Иний.
— Так-так-так! — задолбил, как дятел, Хнум: имел такую привычку. — Гнали Отца, гнали Матерь, а нынче принялись и за Сына!
Сын был Хонзу — Озирис Фиванский, рожденный от Отца Амона и Матери Мут.
— Как же его истребят? Ведь он золотой, — сказал Хнум.
— Бросят в печь, расплавят, понаделают золотых дебенов, накупят хлеба и раздадут голодным: «Ешь бога, славь царя!» — объяснил Иниотеф.
— Как же так нехорошо? Ухух, помилуй, Ухух, помилуй! — завздыхала Нибитуйя.
Ухух был очень древний бог, всеми забытый: ни кумира, ни храма, ни жертв, ни жрецов — ничего у него не осталось, кроме имени. Люди помнили только, что был какой-то бог Ухух, а над чем и какой из себя, давно забыли. Но Нибитуйя за то и любила, жалела его и в трудные минуты жизни призывала не великого Амона, а Ухуха малого. «Никто-то ему не помолится, бедному, а вот я помолюсь, он меня и помилует!» — говорила старушка.
— Ну, а что же народ? — спросил Хнум.
— В ихний хлеб не очень верит, — ответил Иний, лукаво щурясь. — «Всё-де разворуют царские писцы, Атоновы прихвостни, — мимо рта у нас пройдет!» Ну, и жрецы поджигают: «Станьте, говорят, люди, за бога, не выдавайте на поругание лика пречистого!» А такие речи в народ — что огонь в солому. Сам, господин, знать изволишь, время нынче какое, долго ли до бунта!
— Так-так-так, страшное дело бунт!
— Чего страшнее! Сказано: «Потрясется земля, не вынесет, чтоб господами были рабы». Ну, да ведь и то сказать: чего ждать от рабов, когда царь…
— О царе не смей, рыбы съедят! — остановил его Хнум. Это значило: кто царя похулит, будет после смерти брошен в реку на съедение рыбам.
— А второй указ о чем?
— О гробничных землях, чтоб в казну отбирать: отберут у богатых и поделят бедным: полно-де мертвым живых объедать!
— Так-так-так, — задолбил Хнум и замолчал, загляделся на Нибитуйины быстро шевелившиеся ручки, пеленавшие мумию кузнечика.
— Ухух, Ухух, помилуй! — опять завздыхала она и, оставив кузнечика недопеленутым, подняла на мужа круглые от испуга глаза. — Как же так, Хнум, чем же будут кормиться покойнички?
— Молчи, старая, не твоего ума дело, знай своих жужелиц! — проворчал он, потрепал ее по плечу, улыбнулся, и лицо его сделалось очень добрым, странно похожим на лицо жены, несмотря на разность черт; казалось, что это брат и сестра: так часто бывают похожи к старости дружно живущие супруги. — Сыты будут мертвые, небось; как бы только нам, живым, не пришлось хуже мертвых! — прибавил он угрюмо.
В самом деле, не очень боялся за мертвых. Если бы вышел указ, чтобы людям хлеба не есть, пива не пить, — ели-пили бы по-прежнему: то же будет и с этим указом: живые мертвых кормить-поить не перестанут, потому что весь Египет на том и стоит, что у живых и мертвых — хлеб один, одно пиво — плоть и кровь бога Хонзу Озириса, сына Божьего.
— А придется-таки взятку дать Атоновым сыщикам, — продолжал Иниотеф.