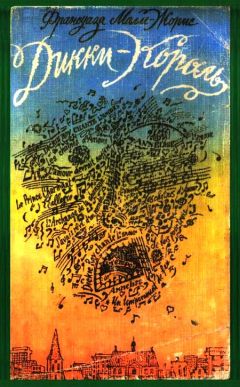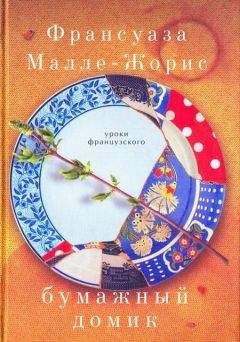Детство обладает опасным даром сиюминутности: оно не верит в существование невозможного. Детство само по себе волшебство. Оно волшебно хотя бы потому, что оно детство. На выбор непрестанно предлагаются различные миры, несовместимые друг с другом, и детство создает из них чудовищную поэтическую конструкцию. Первая ложь — это эксперимент более чем грешный; она, несчастная, худенькая девчонка, изобретает приукрашенные версии своего бытия. «Мой отец был одним из самых больших людей в здешний краях, — говорила она. — У него был самый красивый дом. Горе отняло у него разум». Сочувствие, подаренная накидка, лакомство служили доказательством ее власти. Иной раз ее охватывала гордость. «Мы счастливее вас, мы видели разные страны. Однажды я видела настоящего китайца». Она покидает крестьянский двор, как королева взбирается на жесткую, холодную тележку, от которой болит поясница, под восторженные взгляды сытых детей. Разве она солгала? Во всяком случае, когда они уезжают в тряской повозке под непрестанным дождем севера, она долгое время не ощущает ни холода, ни голода. Так же как и ее отец после выпивки. Девочка хрупкая, но твердая духом. Лишенная матери, она сама стирает и чинит белье; руки огрубели. Вытирает блевотину отца, терпит вспышки его гнева, а иногда и удары кнута. Ее лицо принимает суровое выражение сосредоточенной, высокомерной покорности бедных женщин, постаревших к тридцати годам, но не униженных и хранящих достоинство, принятое ими раз и навсегда и пребывающее при них до самой смерти. «Она очень вынослива», — говорит отец сочувствующим крестьянкам. Она вынослива, вот и все. Когда же она устает и замерзает (ветер — самовластный господин этих равнинных мест), она прячется за спиной отца на постоялом дворе, ослабевшая, насмешливая, готовая укусить даже, когда ее светло-голубые глаза сосредоточенно — так что она при этом немного косит — наблюдают за разыгранным по-крупному спектаклем хвастовства, проклятий и выпивки. Однажды отец, под властью вина, или безумия, или непреодолимого желания стать блистательным центром всеобщего внимания, источником жизни, опьяненный безличной сердечностью, которая похожа на безразличие так же, как и на братство, разложил все свои сокровища посреди большого, пропыленного зала. И эти жалкие сокровища мгновенно преобразились. Грубые, но прочные ткани, галуны, кусок тонкого, как паутина, кружева, пожелтевшего, однако выглядящего здесь весьма престижно, украшения из немецкого стекла, ленты. Возчики, две женщины, которые держали постоялый двор, нищий, прикорнувший у огня, по временам вздрагивающий, как маленькая собачка, — все окружили сокровища, восхищенно рассматривая сверкающие ножи, медные браслеты, кусок поредевшего от времени муара… И вознесенный внезапным приступом бреда, отец давай расхваливать свой товар. Его лицо, хитрое, тощее (лицо нищеты, привыкшее к унижению, которого не замечаешь), вдруг преобразившееся, сверкало радостью, которой он не испытывал даже от самых выгодных сделок.
— Смотрите! Замечательный муар, платье из него могла бы надеть принцесса, а я дарю его вам, мадам Марта! Жанетта, вот серебряные ножницы с насечкой, купленные на распродаже в замке Де И. Я дарю их тебе, моя девочка, и еще наперсток впридачу! Хотите прекрасный стальной нож? Рене, вот браслет для твоей подружки! А ты, старик, возьми кусок хорошей шерсти, согреешься! Ну, берите, берите же, я говорю вам!
Тут начинается лихорадка, одна вскрикивает, другая бежит, протянув руки, они отступают, кричат. В комнате становится жарко, пиво льется в большие стаканы через край; сумасшедшая радость, служанка целует торговцев в губы, сокровища исчезают, их больше нет, и после этой вспышки пламени остается зола, но разносчик тут еще король, он советует одной, как сшить корсаж, другой, как сшить юбку, как пользоваться ножом, который ему самому нужен… Он подходит то к одной, то к другой, как дружелюбный властелин, похлопывает по плечу, он полон гордости и радости от того, на что он осмелился — на раздачу по мелочам того немногого, чем он владел при своей нищете, гордый праздником, которому один он знает цену: долгие дни на голодный желудок, чудовищные лишения; это их ночь, и они поют; хозяйка, не желая отставать от разносчика, наполняет стаканы; радостные крики, служанка потихоньку добавляет к своему приданому кольцо, ленту, но кто ее упрекнет? Из котомок достают печенье, сыр, все на общий стол, в камин щедро бросают поленья… Таких праздников не бывает в заботливо запертых крестьянских домах, где боятся волков, разбойников, холода. В этих домах все как вымерло; там не позволяют себе праздника, который сулит на завтра нищету и страдания. Холодная постель, потухший очаг, дождливый рассвет, отрыжка воспоминаний о вчерашнем дне — все это последует с фатальной неизбежностью. Но это только усиливает безумие на час. Нет меры грубости объятий, сумасшествию опьянения: там сверкает отчаяние, свершается акт справедливости по отношению к нему, триумфатору на мгновение, заплатившему полной мерой за свою независимость, за это торжество без будущего, но тем более яркое среди всей этой нищеты. А на следующий день — тележка с остатками товара в коробах, медленное, лишенное надежд движение по бесконечным дорогам, сгорбленные плечи… Снова — скромный разносчик.
— Я не так уж плохо сделал, — вдруг скажет он (его смятая одежда цвета земли, камня, леса будто подчеркивает незаметность его существования: он точно растворяется в пейзаже, поглощен без остатка длинной, серой дорогой). — Уж на этом постоялом дворе я всегда смогу остановиться в кредит. — Девочка не отвечает. Упрямо молчит с подведенным животом. Она не жертва, а судья, и это новая метаморфоза. — А что, нет?
Большой деревянный короб на три четверти пуст, в кармане — мелочь, всего несколько су, утренний завтрак на постоялом дворе подан с неохотой, служанка носит кольцо, на лице выражение стеснительного недовольства, хозяйка еще спит (так, по крайней мере, сказали)… Согнутый унижением отец.
— Скажешь, нет? — Суровая, маленькая девочка. В то время как он взывает к ней, она, его тяжкая ноша, его мучительный долг, ученая обезьянка, призванная возбуждать жалость, ей пока грош цена, она ест больше, чем приносит дохода, — его единственный свидетель. — Все-таки это было прекрасно?
На тонком бледном лице, усыпанном веснушками, появляется нежное выражение, делающее из ребенка десяти лет женщину:
— Да, это было прекрасно.
Мне очень нравится Анна де Шантрэн в возрасте от восьми до десяти лет.
Зрелость начинается с первой крови: в одиннадцать или двенадцать лет, не более. Дикая козочка, маленькая бродяжка, бедная игрушка леса и звуков, она становится женщиной, и все меняется. Бедная дикарка к этому совершенно не готова.
— Но ты же знала…
Она ничего не знала, она не знала, что к ней придет это. Разве кто-нибудь знает, что придет смерть? Кое-кто знает. Но это большие: мужчины, женщины, взрослые… «Я женщина?» Детская грудь переполняется возмущением. Куда деваться? Она, такая стойкая в несчастье, она, столь гордая в унижении, с телом, разбитым долгими переездами и побоями, готова расплакаться. Потому что ей страшно. В блуждающем взгляде отца — смущение, даже мгновенная нежность, но она почувствовала угрозу. Он хочет избавиться от нее. Ребенком Анна была для него всем: судьей и сообщником, свидетелем, актером его ежедневной драмы, а еще животным, чье слабое тепло согревало, когда она прижималась к нему в конюшне, она была для него гномом, эльфом, игрушкой, безмолвием. Но, став женщиной, она превратится в личность, присутствие, слово. Быть может, упрек. Это несчастное кровотечение напугало его, может быть, больше, чем ее. В конце концов не помешает ли ему присутствие этой женщины быть мужчиной? Непонятная сущность женщины волнует его, приводит в отчаяние. При жизни жены он, растратив приданое, устраивая, как он говорил, свои дела, уходя из благоустроенного дома в деревни, все более отдаленные, чтобы заставить себя слушать, жил там мечтой об иллюзорном могуществе, а она доила коров, собирала яйца и стояла на пороге дома, который его все же притягивал и нес в себе мечту о тепле, понимании, блестящем верховенстве главы семьи. Она думала, в своей женской непроницаемости, нежная, как сурок, что другие женщины покушаются на ее деньги и низенького, хромоногого супруга. Женщин этих было великое множество! Доброе слово самого богатого крестьянина, презрительное почтение мелкого судейского чиновника, идущего на дно, шумное восхищение (правда, насмешливое) цыганского табора, устроившегося по-хозяйски, — вот то добро, которое он искал так далеко и за которое платил так дорого. О, воображаемое добро! А в ней самой, в жене, он любил не приданое, не теплое стойло, не тело ее, пахнущее коровой, не старательно приготовленную ежедневную пищу, насыщавшую лишь желудок, но власть, растущую изо дня в день, которую он приобретал над этой простой душой, беспокойство, которое он порождал в ее глазах цвета луговой травы: он любил ее за слезы. И потом за ее смерть. Это было прекрасное несчастье, дозволенное безумие. Несчастный ребенок, которого он тащил за собой, маленький зверек, выдрессированный для забавы, для развлечения. Портрет покойной в котомке, эта опоэтизированная глупость, был пропуском в царство грез. Другая женщина? Никогда! Только этот ребенок.