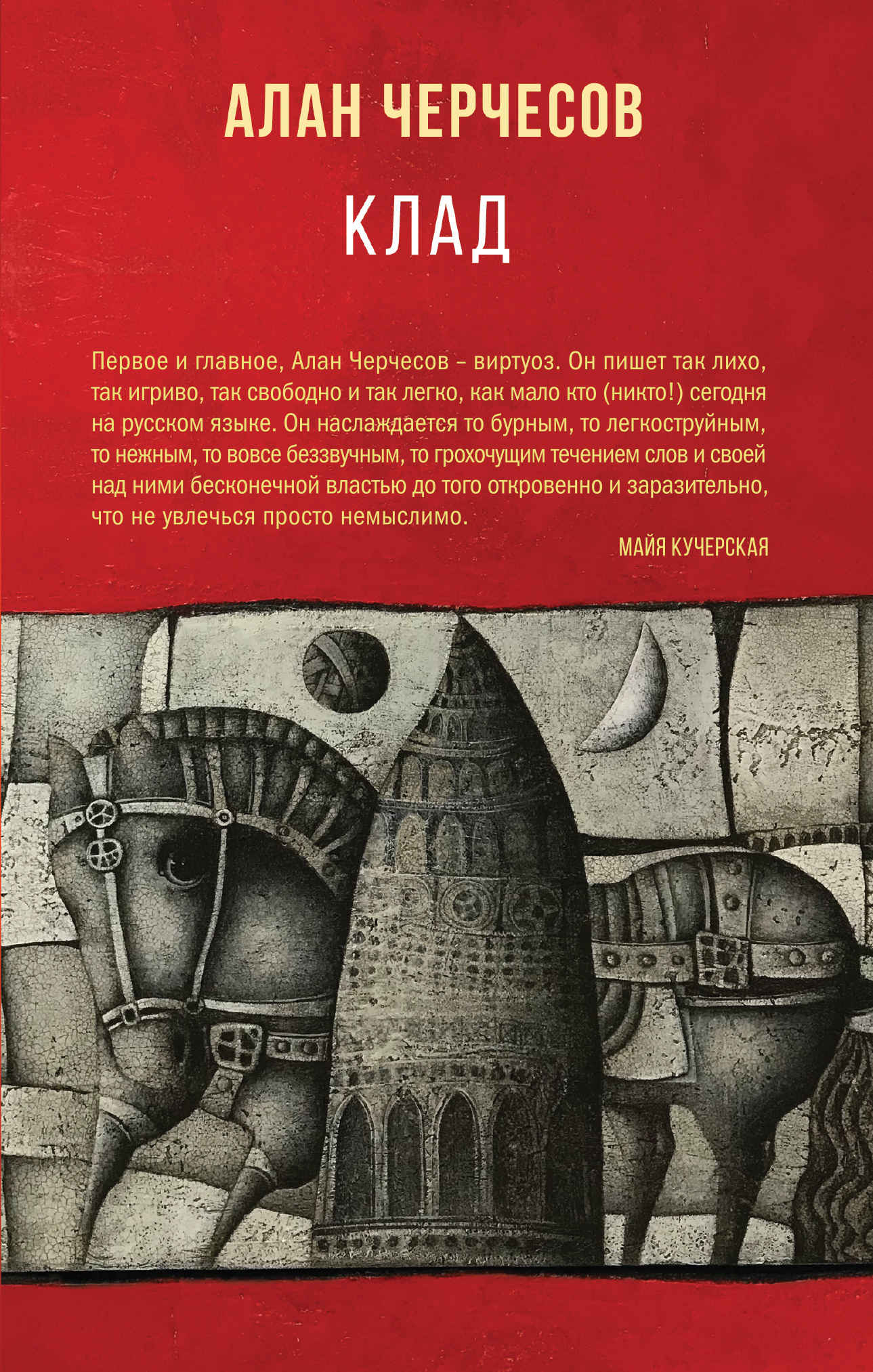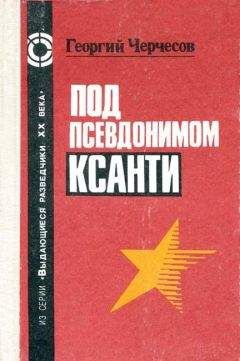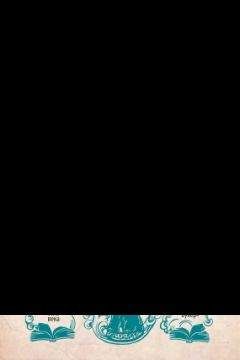шести, а также не слишком болтать до и после в конторе приветствовались.
Что до жены, та обычно корпела в квартире за древним, угрюмым бюро, доставшимся ей от знаменитого деда-профессора, а по средам и пятницам отлучалась на три бесполезных часа в свою альма-матер, где ей, бывшей круглой отличнице и внучатой племяннице прежнего ректора, скрепя сердце доверили факультатив по худпереводу для четырех вечно сонных, судьбой разобиженных дев.
В институте зарплата была курам на смех, зато недозанятость в вузе экономила силы на выполнение заказов от юридических фирм, турагентств и издательств. Свободно владея английским, французским, почти что – немецким и ухитряясь еще мимоходом толмачить статейки с испанского, у адвокатов, дельцов и редакторов полилингвистка была нарасхват.
Время от времени ей попадались проекты весьма интересные.
– Сложнейшая вещь! И язык изумительный. Тот случай, когда изначально понятно, что перевести адекватно нельзя, но не переводить совсем нельзя еще больше.
– Поздравляю, – подтрунивал муж. – Теперь у тебя есть игрушка на несколько месяцев.
– Все достойней, чем пыль по архивам глотать, – заводилась она, – и топтаться годами в курилке с такими же трутнями.
– Между прочим, я не топчусь, а пишу диссертацию. Это вам не разыскивать в склепах истлевшие рифмы или бубнить до мозолей во рту околесицу чокнутых гениев. Я занимаюсь наукой.
– Не городи ерунды. Любая наука предполагает конкретность и доказательность базы. У истории с этим беда. Так что в плане аутентичности даже дрянной перевод даст вашим липовым штудиям фору.
– Перевод – не наука, а интерпретация. Причем субъективная.
– А история – нет?
– История – это наука о том, как найти здравый смысл в сумасбродстве эпох.
– Наука способна учить. История – нет.
– Может, дело в плохом переводе ее августейших уроков на ваш рифмоплетский язык?
– А может, в косноязычии тех, кто в ней роется, чтобы найти хоть какой-то приемлемый смысл в бесконечной бессмыслице?
– Кто б говорил! Перевод есть синоним санкционированного косноязычия. Сами же признаетесь, что больше, чем на худую четверку, переложить самобытность оригинала вам, ухажерам цитат, не в подъем.
– Как и вам – воссоздать достоверно одну лишь минуту из прошлого. Куда там отстроить века! Только вас не оттащишь от этой кормушки и за уши.
– Мы детективы времен.
– Вы костюмеры времен, их гримеры, слепцы и цирюльники. Самовлюбленные сочинители путаной небывальщины.
– Мы опираемся на первоисточники.
– Скорее, вы их попираете. Как ранее ваши «первоисточники» попирали другие источники. Интерпретация – это про вас. Мы и в подметки тут вам не сгодимся.
– Сопоставляя источники, мы обличаем подлоги и реконструируем истину.
– Да у вас каждый новый правитель – лишь повод в угоду ему обчекрыжить историю, пообстричь под монарший росток и, толкаясь локтями, ханжески отретушировать.
– Против подобных эксцессов у нас есть спасение – архив. Без него б не осталось и камня на камне от прошлого.
– Зачем людям камни, когда возвели им дворцы великие Данте, Шекспир и Сервантес?
– Словоблуды, вруны и придумщики!
– А вы лизоблюды, плуты и начетчики!
– Ну а вы для всех них и всех нас – переводчики. Исказители духа и смысла.
– Я тебя ненавижу.
– И я тебя очень люблю.
– Я серьезно.
– И я не шучу.
– Не хочу больше ссориться.
– Ладно.
– Расскажи-ка мне лучше, что там сегодня стряслось.
– Где стряслось? Разве что-то стряслось?
– На работе ведь что-то стряслось?
– Не так чтобы очень. Просто уже с четверга вводят новые правила доступа. Помнишь, я говорил?
– Да наплюй!
– Наплевал.
– Разотри.
– Раза три? Тьфу-тьфу-тьфу.
– Ну и дурак ты!
– Ага. Ничего, что научный сотрудник?
– Научный преступник!
– Как скажешь.
– Не смейся!
– Куда уж смеяться. Впору белугой реветь.
– А ты начихай. И не лезь на рожон. Это они дураки.
– Дураки беспросветные.
– А ты, как последний дурак, защищаешь историю.
– Попробуй от них защити!
– Ничего-то у нас не меняется.
– Может, проскочим еще.
– Может, еще и проскочим.
* * *
Вот что забылось: когда на работе уволили шефа отдела, цветок разродился внезапным холстом и, будто ошпарившись, сразу его обронил (распятая дохлая птица с крыльями разной длины и впервые – не бабочка). На остальных лепестках в нужный час, через день или два, распахнулась мажорной раскраской насекомая безукоризненная симметрия.
Ее-то они и подшили в альбом: птица стремительно сгнила.
– Как давно он у вас, этот хмырь?
– Года два.
– Скользкий, ты говоришь?
– Гладкомордый и скользкий. Оттого и прозвали Рептилием.
– Долго же он обвыкался!
– Внедрялся в среду.
– И на что ваш начальник надеялся?
– Старый чурбан облажался. Сел в калошу по самый кадык. Все квохтал, лебезил, бодро пучил глаза и, воздев указательный палец, шипел: «Наш куратор – оттуда! Имейте, коллеги, в виду». А едва отстранили, свалился с обширным инфарктом. Хорошо бы не помер. Мужик он, конечно, говенный. С руководством – холуй, с подчиненными – жлоб, но когда вдруг людей убирают вот так, ни с того ни с сего, то будто тебя самого окунают в помои.
– А что же его заместитель?
– Слонялся по всем кабинетам, пачками жрал валидол и навзрыд сокрушался: «Ах, мерзавцы! Мерзавцы!»
Тем и выдал себя. Другому б кому за «мерзавцев» уже бы наутро впаяли статью. Ну а он теперь в дамках – начальничек.
– Хочешь сказать, сам науськал Рептилия?.. Фу, как противно.
– Противно.
– Ты уж смотри там, не лезь на рожон.
– Не полезу… Мастыркина помнишь?
– Который ваш местный бретер?
– Как воды в рот набрал. То воевал, баламутил, артачился, а тут поджал хвост, причем сдулся в момент. Даже бросил курить, чтоб чего не сболтнуть в перерыве.
– Надо же! Вроде такой правдолюб, бузотер… Это же он в позапрошлом году за банкетным столом порывался повесить Архипова прямо на галстуке?
– Кстати, Архипов слинял.
– Опупеть! И куда?
– Говорят, в Тель-Авив, но не факт. Помяни мое слово, еще вынырнет где-нибудь в департаменте. У него же папашка в чинах и погонах.
– Может, Мастыркин поэтому и присмирел?
– Может быть.
– Может, еще и проскочим.
– Жаль, что кирдык диссертации.
– Думаешь?
– Кто ж мне ее разрешит подавать на защиту!
– А ты не гони лошадей. Пережди, никому не показывай. Лучше всего принеси-ка домой.
– Да принес я. На прошлой неделе еще.
– Вот и умница.
– Трус.
– Никакой ты не трус.
– Я ссыкун, как и все.
– Может, нам тоже уехать?
– Куда?
– Хоть куда.
– Хоть куда – это круто. Покажешь на карте свою Хотькуданщину?
– Я владею тремя языками. Даже тремя с половиной.
– А я – половиной без трех. Да и что нам там делать?
– Дышать.
– Ух ты! Прозвучало заманчиво.
– Очень.
– И оставить им все?
– Зато – без себя.
– И страну, и язык, и историю?
– Только страну и, на