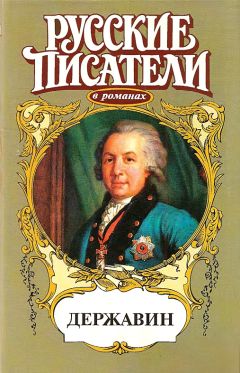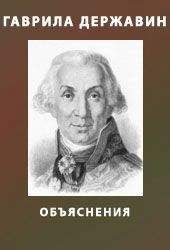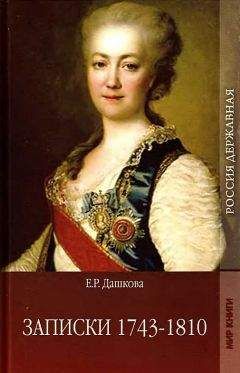— Да, Александр Алексеевич! И ещё порядочный неслух, — добавил новый управляющий. — Самолично, по собственному почину решил за минувший год расходы и доходы империи подсчитать.
— Но я же приказывал не делать нового расписания и табели! — Вяземский отшвырнул журнал.
— Я поставил господина статского советника о том в известность.
— Ну а он?
— Сказал, что приказание сие мудрено и причины ему он никакой не видит...
Причина, однако, существовала, и серьёзная. Генерал-прокурору было выгодно занижать доходы государства, выявленные после ревизии. Когда требовались дополнительные средства, а по официальным документам получалось, что взять их негде, тут-то Вяземский и использовал не вошедшие в расчёт поступления, удивляя царицу мнимой своей изобретательностью. Но простодушный и прямой Державин не понимал, для чего надо было скрывать доходы. Забрал он у столоначальников все бумаги, сказался на две недели больным и составил новую табель, из которой явствовало, что государственный бюджет можно увеличить на восемь миллионов рублей.
В один из докладных дней, в присутствии всех членов экспедиции Державин представил генерал-прокурору свой труд со словами:
— Вы изволили приказать не сочинять новой табели, а поднести старые. Сие исполнено. Но, думая, чтоб за то не подвергнуться гневу монаршьему не только нам, но и вашему сиятельству, осмелился я сочинить правила, из коих вы изволите увидеть, что можно показать и новое состояние государственной казны.
Завиды и ярости обуяли рассвирепелого начальника. Взбешённый, он дёрнул себя за букли — явилась голизна, скрытая париком. Вяземский не скрипел, а кричал:
— Вот новый государственный казначей! Вот умник! Садись, коли так, на моё место!
Поражённый неблагодарностью, Державин прослезился и, приняв выговор, твёрдо ответил:
— Много мне делать изволите чести, ваше сиятельство, почитая меня быть достойным государственным казначеем...
Но давняя ненависть и злоба к поэту душили Вяземского.
— Извольте же, сударь, отвечать, — кричал он, — коли не будет доставать суммы против табели на новые расходы!..
К сему своё тявканье присоединил поклёпник и полыгало Бутурлин.
— Что ж, ежели вы изволите сумневаться в сих правилах, — упрямо сказал Державин, — не угодно ли приказать рассмотреть оные, подав вам рапорт. Ежели я написал бред, тогда меня уж и обвиняйте.
Генерал-прокурор сделал знак Сергею Ивановичу Вяземскому и Бутурлину:
— Хорошо! Рассмотрите немедля и подайте мне рапорт.
Он был уверен, что в трудах легкомысленного сего бумагомараки найдут они какую-нибудь нелепицу. Сделав собрание, чиновники наистрожайше рассмотрели новую табель, но, сколько они ни покушались опровергнуть сведения, все двадцать человек управляющих и советников единогласно подали рапорт, что новую табель можно поднести её величеству. Трудно изобразить, какая фурия представилась на лице Вяземского, когда он прочёл сей акт! Не сказав ни слова, генерал-прокурор отвёл в сторону молодого Вяземского и, пошептав ему что-то на ухо, а затем и Васильева, который также ему был свойственник, будучи женат на двоюродной сестре его супруги.
«Худая награда за мои труды! — сказал себе Державин. — Нельзя там ужиться, где не любят правды».
Он вышел в экспедиционную комнату и написал князю Вяземскому письмо, просясь у него в отпуск на два года для поправления расстроенного хозяйства, а если сего сделать не можно, то и совсем в отставку. Отдав письмо секретарю, Державин ушёл домой и несколько дней не выходил из комнат. Между тем история сия разнеслась по городу и дошла со всеми подробностями до сведения Екатерины II через благоволившего поэту графа Безбородко. Вскорости к Державину явился столоначальник Васильев. Он снова, но уже притворно предлагал примириться и сказал между прочим, что письмо Державина лежит перед князем на столе и что тот не хочет по нём докладывать государыне, а велит подать формальную записку в сенат. Это означало полную немилость у генерал-прокурора, а также показывало, что Вяземский боится докладывать сам о певце Фелицы.
— Я у его сиятельства под начальством служить не могу! — отрывисто ответил Васильеву Державин и тотчас же подал просьбу об отставке.
Сенат поднёс императрице доклад, в коем присудил Державина наградить чином действительного статского советника в поощрение его ревностной службы. Когда 15 февраля 1784-го года Александр Андреевич Безбородко зачитал это решение, Екатерина II сказала:
— Передайте Державину, что я его имею на замечании. Пусть теперь отдохнёт. А как надобно будет, я его позову.
В царствование Екатерины II в Москве и в Питербурхе гвардии поручики, бригадиры, коменданты, наместники сочиняли в стихах и в прозе, переводили со всевозможных языков, в том числе и с тех, которые знали только со слов толмача. Даже девушки и дамы занимались сочинительством.
Пример подавала сама императрица. В новом журнале «Собеседник» она выступала в нескольких ролях. И прежде всего как заботливая бабка.
До сих пор не раскрыта тайна рождения Павла I. Здесь таится загадка всей царствовавшей линии Романовых. Но та нелюбовь, нет, ненависть, какую проявляла царица к наследнику, бросалась всем в глаза.
Тот день, когда она была обязана по этикету или по каким-либо иным обстоятельствам видеть сына, Екатерина II считала для себя потерянным.
Она терпела в сорока вёрстах от Питербурха рыцаря в замке, много сходствовавшего, по её мнению, с Дон-Кихотом и содержавшего при себе несколько батальонов пехоты и до тысячи конных солдат, набранных из голштинцев, а также из преступников, чрез вступление к нему на службу избежавших мщения законов.
Сколь не любила она сына, столь обожала, боготворила внуков, Александра и Константина, и не дозволяла Павлу ни одного из детей своих иметь при себе. Известно, что Екатерина II написала завещание, по которому передавала корону Александру, устраняя от наследия Павла Петровича. Сей акт хранился у Безбородко, который поднёс завещание Павлу Петровичу, когда Екатерина II была ещё жива. Двенадцать тысяч душ в Малороссии, титул светлейшего князя и место канцлера были наградою Безбородко.
Свои художественные сочинения — нравоучительную «Азбуку» и известную уже нам сказку о царевиче Хлоре императрица предназначала для задуманной ею «Александровско-Константиновской библиотеки», то есть для своих малолетних внуков. В «Собеседнике» она начинает печатать обширные «Записки касательно российской истории», в ту пору, когда ещё ни одного учебника по этому предмету не имелось.
Иностранку по происхождению, Екатерину II возмущало пристрастное, ненавистническое отношение к России со стороны многих европейцев. В предисловии к «Запискам» она отмечала: «Сии записки касательно российской истории сочинены для юношества в такое время, когда выходят на чужестранных языках книги под именем истории российской, кои скорее именовать можно сотворениями пристрастными; ибо каждый лист свидетельством служит, с какою ненавистью писан, каждое обстоятельство в превратном виде не только представлено, но к оным не стыдился прибавить злобные толки. Писатели те, хотя сказывают, что имели российских летописцев и историков пред глазами, но или оных не читали, или язык русский худо знали, или же перо их слепою страстию водимо было...»
Правда, и сама Екатерина II грамматику знала не очень твёрдо: слог её чистили и выправляли сперва Дашкова, а потом Храповицкий. Но, несмотря на свои «грешные падежи», эта урождённая немецкая принцесса, пожалуй, была подготовлена к тому, чтобы заниматься российской словесностию лучше, чем многие коренные русские, нередко воспитанные, подобно героям фонвизинского «Бригадира», в духе пренебрежения к собственной культуре и родной речи.
Считая особенно важным в воспитании великих князей «познание России во всех её частях», государыня намеревалась наставлять не только своих внуков, но и подданных. Начало её литературной деятельности относится к 1769-му году, когда Екатерина II стала издавать сатирический журнал «Всякая всячина». Почти тотчас же со страниц другого, организованного в том же 1769-м году журнала «Трутень» раздался голос Правдолюбова, который обличал крепостников, лихоимцев-чиновников, резко нападал на «просвещённых монархов» и отстаивал независимость литературы от власти. Это был псевдоним Н. И. Новикова. Императрица, в свой черёд, назидательно советовала «Трутню» поменьше обличать и побольше «хвалить сына отечества, пылающего любовию и верностию к государю». Полемика, принявшая в конце концов характер острый, неприятный и даже личный, привела к закрытию «Трутня». Теперь, через много лет, прежняя история повторилась. Только в спор с царицей вступил не Правдолюбов, а Нельстецов...